Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и диалога. - [4]
Падение Византийской империи, появление Московского государства и потом — России и, наконец, формирование национальных государств в Центральной и Восточной Европе не заставили православных отказаться от принципа «симфонии». Во всяком случае, они сохранили ту часть его конкретного содержания, которую можно было связать с отдельными национальностями. В действительности именно от него произошел принцип «автокефалии». Отдельные церкви поспешили одобрить его как необходимый признак любых национальных государств, части которых была суждена полная независимость (как это случилось в конце концов с болгарами).
Это всеобщее признание автокефалии, в частности и вселенским патриархом Константинополя, поспешившим ее одобрить, стало завершением долгого исторического процесса, в ходе которого отдельные православные церкви, и в первую очередь монашество, вышли на первый план в вопросах, касающихся определения, сохранения и защиты национальных особенностей. Крах многонациональных государств Восточной Европы, с одной стороны, и развитие национального самосознания в XIX — XX веках — с другой, не привели к отказу от понятия «симфония», но наполнили его новым содержанием, теперь уже не династическим, а национальным и общенародным.
В таких условиях, несмотря на то, что истина в богословско-вероучительном смысле в целом остается одной и той же для всех православных, ее историческое значение понимается весьма многообразно. При этом пострадало и продолжает страдать то самое внутреннее единство православной ойкумены, для установления которого им не хватило сил или возможностей. Существует, конечно, определенное внутреннее единство в духовной сфере, и о нем часто говорят, однако оно теряет свое значение по сравнению с историческим фактом: филетизм, или религиозно-церковный национализм, одержал верх, и православные церкви византийского обряда превратились в совокупность независимых автокефальных церквей, которые разве что признают за вселенским патриархом Константинополя право на почетное место primus inter pares — первого среди равных.
Несмотря на то что Флорентийский собор 1439 года — последний Вселенский собор, в котором принимали участие и православные, — вызвал непонимание и недоверие, в последующие века — при способствовавших этому политических обстоятельствах — отдельные церкви объединялись с Римом, хотя и не без трений и трудностей. Эти союзы, однако, продолжали существовать лишь «сами в себе», хотя с самого начала они рассматривались католиками как «мосты» на пути к всеобъемлющему единству. На размытой, нечеткой границе между православным и католическим миром, несмотря на трудности, в том числе и политического характера, эти церкви смогли выжить: Украинская греко-католическая церковь, созданная в результате Брестской унии 1596 года и сосуществующая с православными церквами на Украине, между польским католическим миром и миром русского православия; Румынская униатская церковь в Трансильвании, созданная в конце XVIII века благодаря Альба-Лонгской унии. В начале XVIII века в сирийской Антиохии формируется Греко-мелькитская церковь, а в 1740 году возникает находящийся в общении с Римом армянский патриархат Киликии. В начале 60-х годов XIX века едва не возникла ограниченная уния в Болгарии. На юге Италии, в Калабрии и на Сицилии, вследствие миграции албанцев во второй половине XV века возникли православные общины, которые позже объединятся с Римом, сохранив собственную особую иерархию. Наконец, следует упомянуть о сыгравшем огромную религиозную и культурную роль восточном анклаве, находящемся в общении с Римской церковью, который возник еще в XI веке и связан с именем св. Нила Россанского: у ворот Рима до сих пор стоит монастырь итальянских василиан Гроттаферрата.
Как от ствола православия ответвились католические церкви византийского обряда, так от нехалкидонских церквей (армянской, коптской, сирийской, не признающих вероучительной формулировки Халкидонского собора 451 года о двойственной божественной и человеческой природе Христа) отделялись униатские церкви.
Если, по словам Джованни Мавера (сказанным о славянах, но относящимся в равной мере и к остальным), «объединение церквей... есть некоторый символ этого соединения Востока и Запада», то преодоление определенных барьеров — как религиозных, так и культурных, психологических и мировоззренческих — в последние два века приобрело особенную важность. Утопические идеалы христианского универсализма, распространенные в эпоху Священного союза в первой половине XIX века, положили начало решению этой проблемы. Позже отнюдь не простое взаимодействие православных и католиков касается уже конкретных вопросов и становится понемногу более определенным благодаря обоюдному богословскому и культурному взрослению.
Когда в 1845 году А. Н. Муравьев, чиновник Святейшего синода Русской церкви, высказал неизвестному французскому священнику свое разочарование тем, как мало католики знают о его церкви, он услышал следующий смущенный ответ: «Если, может быть, мы доселе не довольно ознакомились с вашей церковью, то это потому, что нас отвлекала от Востока собственная, трехвековая борьба наша с протестантами и с неверующими минувшего столетия; но теперь мы станем лицом к лицу»
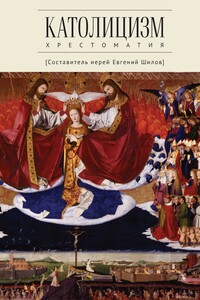
«Католицизм. Хрестоматия по предмету „Сравнительное богословие“» представляет собой собрание ключевых текстов по предмету «История западных исповеданий и сравнительное богословие», который изучается в высших духовных школах Русской Православной Церкви. В ней представлены как официальные документы, отражающие различные аспекты догматического учения Римо-Католической Церкви, так и полемические сочинения православных авторов. Представлены как уже ранее переведенные на русский язык тексты, так и новые, выполненные составителем. Книга предназначена для богословов, историков Церкви, преподавателей и студентов духовных школ и теологических факультетов, а также для всех интересующихся богословской проблематикой.
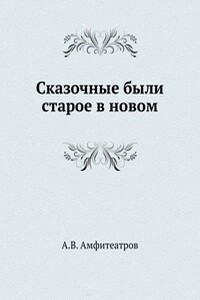
Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.
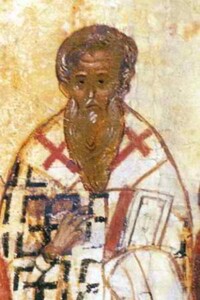
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В доступной форме, известный священник, просветитель, о. Станислав Тышкевич излагает основы уверенности католиков в главенстве Папы, как преемника апостола Петра.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
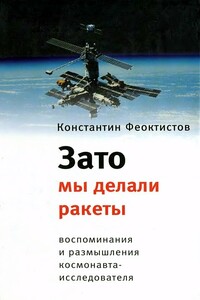
Константин Петрович Феоктистов — инженер, конструктор космических кораблей, один из первых космонавтов.Его новая книга — увлекательный рассказ о становлении космонавтики и о людях, чьи имена вписаны в историю освоения космоса. Но главная озабоченность К. П. Феоктистова — насущные проблемы человечества. Своими размышлениями о подходах к решению глобальных задач настоящего и ближайшего будущего делится с читателями автор.
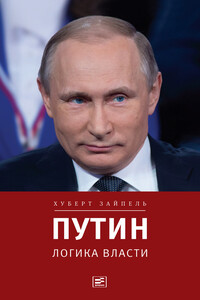
«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.
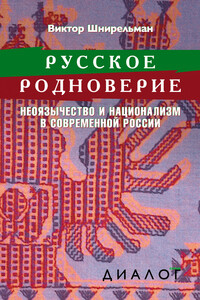
Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.
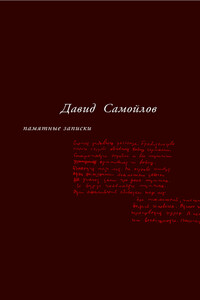
В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)