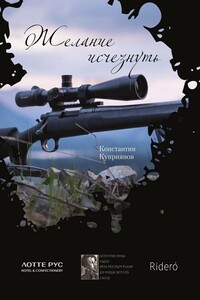Катастрофа. Спектакль - [8]
Сковорода говорил: нечестивая чернь может коснуться тела Христова, но почерпнуть смысла божьего глупая чернь не может. Человек, который одинок, всегда одинок, и в праздник, и каждую минуту, но особенно в праздники, будни отвлекают суетой, так рабочий конь забывает в оглоблях о своей судьбе, думает только о ноше, которую надо безостановочно тащить, и о кнуте, что посвистывает вверху, в праздники же нет даже этого опиума для работяг, одиночка бродит по пустым комнатам учреждения (так безнадежный алкаш приходит в чайную без копейки в кармане и стоит у порога, чтоб только дышать запахами заведения), ощущение кошмарной жажды, которую нечем утолить в Тереховке, снова привкус гнилой воды, он выплевывает воду на пол и плетется по пустым редакционным комнатам, открывая двери носком ботинка, его темное, глубокое отчаяние, отчаяние одинокого путника в пустыне или в глухом лесу, и вдруг…
Звонок. Идиоты, даже вечером мешают… Громкий. Настойчивый. Сама телефонистка звонит. Межгород или начальство.
— Редакция. Да. Гуляйвитер ужинает. Добрый вечер, Дмитрий Семенович. Последнюю страницу верстают. Ну, для нас это не катастрофично, бывает позже. Да, полиграфия хромает. Передовая? «Своевременно готовить почву под озимые». О кукурузе в следующий номер запланировано. Нет, я отвечаю за свои слова, передо мной план на неделю. «Королеву полей — в надежные руки», и разворот, да, в следующий, седьмого, не знаю, редактор ничего не передавал, планирует редколлегия, понятно, но ведь десятый час, я понимаю, никто не писал, я понимаю, сделаем все возможное, доброй ночи, Дмитрий Семенович.
Иван положил трубку, какое-то время сидел неподвижно. Хотелось крепко выругаться. Не было зла на кого-то конкретно, даже на Гуляйвитра. Ненавидел всю Тереховку. Теперь давай, секретарь, ругайся с наборщиками, звони на почту, умоляй печатника, пиши, верстай — выкручивайся. Все на секретарские плечи. Вывези. Что ж, он действительно вывезет. Еще раз. Не впервой. Он уже привык.
Даже приятно иногда. Ощущаешь свою настоящую силу и цену. Пусть наконец убедятся, на ком все держится. Резко поднялся. Походка молодая, упругая, голос резковатый, таким голосом отдаются команды перед боем:
— Уля, бегите за редактором, тревога. Первую не правьте, будет переверстка…
И поспешил к наборщикам, весь напрягшись, словно перед прыжком в холодную воду:
— Кто первую верстал? Вы, товарищ Скляр? Будем переверстывать. Звонил секретарь райкома. Я уже послал за редактором. Приготовьтесь.
Он сказал это спокойно и холодно, перечеркивая крики Приськи, которая уже швырнула на кассу наборную линейку.
— Хоть стреляйте — пальцем не ворохну.
— Надо с утра, человече, думать, а не в полночь на райком списывать. С утра до вечера в шахматы режетесь да зубы скалите: я сам завтра в райком пойду…
— От зари до зари со свинцом, как каторжный, — бубнил из угла старый печатник.
— Вам платят внеурочные, и можете завтра писать хоть тысячу жалоб, мне это безразлично, а сегодня закончите газету, иначе… — Злость поднялась в Загатном, он схватился за сожженную руку, чтоб опомниться, но было уже поздно. — Иначе обижайтесь на себя…
— Ты что, нас пугать? — завелся печатник. — Ты еще под стол пешком ходил…
Цех поплыл перед глазами. Неподчинение всегда бесило Ивана, а тут шло о большем.
— Попрошу не «тыкать». Мы с вами свиней не пасли и, надеюсь, впредь не будем.
— Подавитесь вы этими копейками, если упрекаете, — это Приська.
— Я и за большие деньги не стал бы с тобой свиней пасти, — снова печатник.
— Что за шум, что за гам учинился? Други-товарищи, прошу слова. Приськин голос я услышал от библиотеки, подумал — горим, — в цех влетел Гуляйвитер. — Что случилось, Кириллович?
— Секретарь райкома приказал передовую о кукурузе в номер, — сухо ответил Загатный.
— Я сейчас позвоню, попробую выкрутиться. А если уж такая доля — гуртом навалимся, гуртом и батька́ легче бить, и передовую изобразить — раз плюнуть, я сам к кассе стану, молодость вспомню, а Иосиповна мигом заверстает, золотые руки…
— Все, конечно, можно, — на глазах добрела Приська. — Если по-человечески…
— Такое уж ярмо наше, газетное, — гасил Гуляйвитер пламя ссоры, щедро рассыпая слова.
— Если бы кое-кто меньше командовал… — прозвучало из угла. — Разве мы не понимаем?
«Как он умеет с ними, эта бездарь, — завистливо думал Иван, отступив к окну. — Плетет ерунду, а они слушают и не злятся. Должно быть, чуют в нем своего, а я чужой. Масса любит простачков и демагогов…»
— Кто в воскресенье по грибы, обращайтесь к нашему профоргу, о машине я договорился, бегу звонить, — уже с порога крикнул Гуляйвитер.
«Но и я остолоп, сорвался, не приведи господи командовать людьми, кто-то писал, что великие гуманисты — потенциальные тираны, но ведь никто не может уничтожить в себе злость, пока не узнает, что в нем зло, а что добро. Сковорода. Надо бы извиниться». Он боялся растерять сладкое чувство самоуважения.
— Мы все… слишком нервные… Начитаешься макулатуры, набегаешься…
Цех молчал.
«Ты ждал, что они от радости упадут к твоим ногам, но что-то никто не падает. Может, ждут, что я стану на колени? Помилосердствуйте, простите… Много чести…» — Иван пошел к двери, вызывающе печатая шаг.

В книгу известного украинского писателя вошли три повести: «Земля под копытами», «Одинокий волк» и сатирическая повесть «Баллада о Сластионе». Автор исследует характеры и поступки людей чести, долга — и людей аморальных, своекорыстных, потребителей. Во второй и третьей повестях исследуемые нравственные конфликты протекают в современном селе и в городе, в повести «Земля под копытами» действие происходит в годы войны, здесь социально-нравственная проблематика приобретает политическую окраску.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.

«Шиза. История одной клички» — дебют в качестве прозаика поэта Юлии Нифонтовой. Героиня повести — студентка художественного училища Янка обнаруживает в себе грозный мистический дар. Это знание, отягощённое неразделённой любовью, выбрасывает её за грань реальности. Янка переживает разнообразные жизненные перипетии и оказывается перед проблемой нравственного выбора.

Удивительная завораживающая и драматическая история одной семьи: бабушки, матери, отца, взрослой дочери, старшего сына и маленького мальчика. Все эти люди живут в подвале, лица взрослых изуродованы огнем при пожаре. А дочь и вовсе носит маску, чтобы скрыть черты, способные вызывать ужас даже у родных. Запертая в подвале семья вроде бы по-своему счастлива, но жизнь их отравляет тайна, которую взрослые хранят уже много лет. Постепенно у мальчика пробуждается желание выбраться из подвала, увидеть жизнь снаружи, тот огромный мир, где живут светлячки, о которых он знает из книг.

Рассказ. Случай из моей жизни. Всё происходило в городе Казани, тогда ТАССР, в середине 80-х. Сейчас Республика Татарстан. Некоторые имена и клички изменены. Место действия и год, тоже. Остальное написанное, к моему глубокому сожалению, истинная правда.