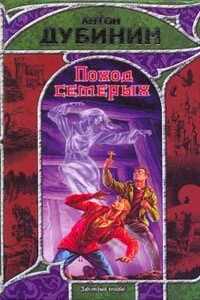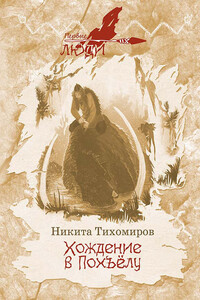Аймер слушал внимательно, от сосредоточения спотыкаясь о корни на дороге. Оказывается, рядом был и Антуан, не желавший упустить такого интересного разговора. Мальчик старался идти у стремени, но из-за узости лесной тропы все время продирался через кусты, и шипастый самшит хватал его за штаны и шерстяную рубаху.
— Впрочем, мы говорим не об отце Бертране, но о том, как я догадался о чаше, — спохватился Гальярд, прочтя в лицах обоих сыновей некоторое нетерпение. — Был и еще один… немаловажный фактор. Я сам священник, и — Аймер легко меня поймет — прекрасно знаю, что за Святые Дары и впрямь можно сражаться, как за собственное дитя. Не за чашу — за то, что в чаше. Еретикам же это невдомек, вот отчего они легко могли обмануться.
Он помолчал. Окошко Богородицы над головой постепенно закрывалось, сладостная сабартесская морось делала воздух густым — хоть пей его вместо молока.
— Но вот что хочу я вам сказать на будущее, — сказал Гальярд совсем тихо, будто делясь некоторой бесценной тайной. Так закопавший клад человек открывает детям его нахождение, когда понимает, что сам может и не успеть воспользоваться сокровищем. — Если с кем-то из вас случится то, что постигло отца Раймона Сен-Жозефского… Если Господь сподобит стать мучеником во время Мессы, спасти Святые Дары от осквернения можно, если успеть принять их все в уста.
И такой жар безвыходного желания услышал мальчик Антуан в словах своего покровителя — исповедника, все время обуздывающего полученное от Господа сердце мученика — что за эти несколько мгновений он узнал Гальярда лучше, чем за последующие годы жизни с ним в одном монастыре. А Гальярд ехал молча, неловко приподнимаясь в седле, и думал о маленькой чаше, о кровавых слезах больного Ромуальда, о святом отце Раймоне, который, быть может, и не хотел тогда умирать, как Гальярду порой не хотелось жить… («Живем ли, для Господа живем, — строго напомнил у него в голове Гильем-Арнаут. — А умираем ли — для Господа умираем. Не забывай, брат»). О кровавых слезах он думал, обо всех кровавых слезах на свете — после тех, единственных, пролитых в синей от луны Гефсимании. О Гильеме Арнауте думал он, потому что хотел познакомить с ним Антуана, и о собственном брате Гирауте, обреченном смерти, хранившем в сундуке бесполезный маленький потир, омытый изнутри кровью Господней и снаружи — кровью мученика… О руках старого еремита, скребущих по одеялу, о руках Аймера, поддержавших его на пороге ризницы, о руках рыцаря Арнаута, накинувших веревку на шею священника…
И еще он думал, как слабы бывают руки человеческие, не могущие удержать даже того, что сами создают; и о том, что при удаче вплоть до заката можно будет наслаждаться полным отсутствием головной боли.
2005, Москва — Prouilhe — Москва