Карантин - [16]
Во взаимоотношениях с мужчинами у Марии над всеми чувствами преобладала жалость. Она жалела их во всем: в их постоянной неприкаянности, страсти ломать копья по пустякам, смешному дару всегда переоценивать себя, свои качества и еще этой в них неистребимой тяге к несбыточным химерам. Помнилось, в детстве, в деревне, рядом с домом ее бабки ютилась утлая хибарка в два оконца под черной от времени соломой. Жил в ней местный нелюдим Хрулев — колченогий инвалид в несменяемой солдатской паре и калошах на босу ногу. Жил Хрулев бобылем, из дому почти не показывался, занятый целыми днями никому не ведомой работой. Говорили, что, придя с войны, он долго одолевал руководящие организации предложениями всевозможных новшеств и изобретений. Брался, к примеру, снабдить каждого колхозника в округе индивидуальным летательным аппаратом или прорыть многоступенчатый канал от местной речки Лисковой, с тем, чтобы облегчить хлеборобам вывозку навоза на поля. Предлагал он также специальные ракеты для создания искусственного дождя. Но взаимности в верхах Хрулев не добился, то ли по несвоевременности проектов, то ли из-за их дороговизны. После этого инвалид ушел в себя и замкнулся. В те редкие случаи, когда Мария сталкивалась с ним, он, с выражением вопроса и удивления в сонных глазах, коротко взглядывал на нее и тут же отворачивался, торопясь пройти мимо. Раздиравшее ее любопытство прибавило ей решительности, достойной дочери полкового командира. Однажды вечером она пробралась во двор соседа и заглянула к нему в окошко. Среди завалов разнокалиберного хлама — фанерных крыльев, старых тракторных шестерен, сношенных мельничных жерновов — с протянутых из угла в угол веревок свисали, наподобие белья, большие листы бумаги, сплошь заполненные радужными отпечатками сторублевой. Она не успела еще и удивиться, как шершавая рука легла ей на плечо:
— Схоже? — В голосе хозяина не было ни гнева, ни строгости, только затаенная мука сомнения. — Или как?
Купюры Хрулева, даже на ее взгляд, были далеки от совершенства и едва ли пошли бы дальше первого прилавка, но Мария, источаемая жалостью и восхищением Мария, не смогла, не решилась тогда разочаровать его, сказать ему правду:
— Как настоящие, точь-в-точь… Честное пионерское…
Тот у нее за спиной засмеялся горделиво и радостно. Так, наверное, смеялись триумфаторы, оставаясь после чествования, наедине с собой. И смех этот еще много лет потом возвращался к ней в минуты безнадежности и отчаянья…
— Вот видите, — посмеивался рядом с Марией Иван Иванович, возвращая ее к действительности, — я же говорил вам, что им не до нас. У них свои проблемы, остальное их просто не интересует. Но про мальчика это занятно, вы не находите?
Словно услышав его вопрос, Бальзак за столом встрепенулся, поднял на собеседника затравленные глаза и, облучив того снисходительностью и скорбью, обреченно вздохнул:
— А если не будет никакого мальчика? Если ничего не будет, кроме жующих и снующих? Что тогда? Зачем все?
— Нет, нет, нет! — Тот даже подскочил от неожиданности, ему не хватало воздуха, ужас душил его, струясь в трясущихся губах. — Этого быть не может! Мой выживет, обязательно выживет ради меня. Ведь я, это тоже — он. Ведь кто-то, когда-то также рассчитывал на меня. И я выжил, вопреки всеобщему освинению, выжил! А ведь ты знаешь, каково мне было. Разве мой имеет право меня подвести? Нас, Юра, нас?
— А! — примирительно вздохнул первый. — Успокойся, Феликс, дай-то ему Бог, пусть он, твой мальчик, здравствует тысячелетия тебе на радость. Сожалею, но мне от этого не легче. — И предупреждая возражения, вдруг затянул глуховатым баском: — «Голова поседела, не скорби, не грусти, не печалься, погоди. Ты купи себе кепочку, купи, ты ходи себе в кепочке, ходи…»
Чуткое лицо первого вопросительно вытянулось, некоторое время он словно бы прислушивался к песне, вникал в ее смысл, потом профиль его приблизился вплотную к абрису собеседника, и лица их сошлись, образовав, наконец, единую сферу. Мелодия сразу же окрепла, удвоив свою силу: «Нынче все магазины, как один, головные уборы продают. Впечатление отсутствия седин головные уборы придают…»
Двое пели, положив руки друг другу на плечи, и прозрачные слезы, стекая по их большим щекам, орошали собою зияющие безнадежной пустотой жерла бутылок: «Голова полысела, не скорби, не грусти, не печалься, погоди. Ты купи себе кепочку, купи, ты ходи себе в кепочке, ходи…»
До них, казалось Марии, можно было подать рукой, но стоило ей попытаться приблизиться к ним, как пространство снова отодвигало их от нее на прежнее расстояние. Находясь рядом, они как бы существовали в ином, не сопрягаемом с нею мире. Оттуда к ней проникала лишь их мольба о кепочке и, забываясь в беспамятстве, Мария почти машинально повторила следом за ними: «Ты ходи себе в кепочке, ходи…»
XI
Где-то высоко над Марией призывно трубил горн. Горн трубил, словно заклинание, словно солнечный зов из детства, словно щемящий отзвук иной, не похожей на здешнюю жизнь. Хотелось лежать вот так, не двигаясь, с закрытыми глазами, не ощущая собственного дыхания и плоти, наедине с этой призывно трубящей темнотой. Прошлое, пережитое, потаенное забывалось, меркло, уходило в небытие, уступая место чувству полного слияния со временем и пространством. Казалось, она существует в этом состоянии уже целую вечность и впереди у нее еще века и века бездумной легкости и покоя. Она смотрела сейчас на прожитые годы как бы с высоты птичьего полета, и жизнь эта представлялась ей убогой, незначительной, не вызывавшей в ней ничего, кроме брезгливой жалости. Во имя чего она жила? Во что верила? Чему поклонялась? Да и жила ли она вообще? Можно ли назвать жизнью прерывистую вереницу обид и разочарований? О чем ей остается жалеть теперь? Что вспоминать? Мужчин, которые старательно затаптывали в ней все, что возможно еще было затоптать? Женщин, с которыми ее связывали только текущие сплетни и общие любовники? Друзей и подруг, облик которых стирался в ее памяти сразу же после первой разлуки? Все они прошли сквозь нее, не оставив в ней ни следа, ни памяти. Лишь одно лицо сквозь годы и события маячило перед ней, как мечта и упрек, как вопрос и напоминание. Лицо черноволосого мальчика на Рижском берегу, мальчика с печалью обожания в гремучих, угольного оттенка глазах. Он ходил за ней по пятам бессловесной тенью, ревниво следя за каждым ее шагом и взглядом. Она ощущала его присутствие, даже лежа в постели с очередным героем своего романа. Сначала это забавляло ее, льстило самолюбию, приятно щекотало нервы. Но вскоре она отметила в себе перемену. У нее вдруг появилась притягательная потребность в нем, в его обожании, в его рабской преданности, в его обреченном зове. Что-то гораздо большее, чем жалость, проросло в ней и незаметно заполнило ее целиком. В конце концов она не выдержала, сама подошла к нему, взяла за руку и повела в густеющие сумерки побережья. Он ничего не умел, этот мальчик с глазами загнанного оленёнка. Ей пришлось помочь ему, после чего с ним случилась истерика. Его колотило немотное возбуждение, он смеялся и плакал над нею, забываясь и обмирая в призрачном желании изойти, раствориться в ней без остатка. Тогда она поняла, что жаркое бремя такого самозабвения ей уже не под силу. После того вечера она стала избегать встречи с ним, сменила адрес, окружила себя глухой стеной поклонников, старалась не оглядываться вокруг. Но он отыскал ее, и обжигающий взгляд его снова пробился к ней сквозь частокол ее бдительной свиты. Она пыталась не замечать мальчика, забыть о его существовании. Он не отступал, день ото дня стягивая вокруг нее кольцо своего преследования, пока, наконец, не настиг ее однажды в открытом море. «Мария! — молил он и в гремучих глазах его закипали слезы. — Мария!» «Нет, — решительно выдохнула она и, повернув к берегу, повторила еще тверже. — Нет». Короткий полукрик-полустон взметнулся следом за ней, но тут же сник и более уже не повторялся. Когда она оглянулась, на ровной, как стол, поверхности блистающего в полуденном солнце простора обозначались лишь скользящие тени редких облаков. Море позади нее излучалось мириадами крохотных светильников и ничто вокруг, насколько хватал глаз, не возмущало его величавого спокойствия. «Господи! — обмерло все в ней, и земля впереди потускнела и слилась с небом. — За что он меня так!..»
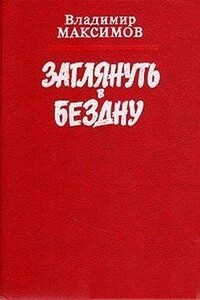
Роман о трагической любви адмирала Александра Васильевича Колчака и Анны Васильевной Тимиревой на фоне событий Гражданской войны в России.
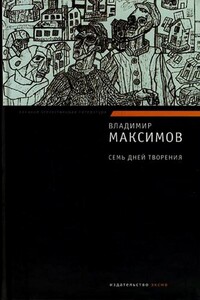
Владимир Максимов, выдающийся писатель «третьей волны» русского зарубежья, основатель журнала «Континент» — мощного рупора свободного русского слова в изгнании второй половины XX века, — создал яркие, оригинальные, насыщенные философскими раздумьями произведения. Роман «Семь дней творения» принес В. Максимову мировую известность и стал первой вехой на пути его отлучения от России. В проповедническом пафосе жесткой прозы писателя, в глубоких раздумьях о судьбах России, в сострадании к человеку критики увидели продолжение традиций Ф.

Роман «Прощание из ниоткуда» – произведение зрелого периода творчества известного русского прозаика, созданный в 1974 – 1981 годы, представляет собой своеобразный итог «советского периода» творчества Владимира Максимова и начало новых эстетических тенденций в его романистике. Роман автобиографичен, сила его эмоционального воздействия коренится в том, что читателю передаются личные, глубоко пережитые, выстраданные жизненные впечатления, что доказывается самоцитацией автора своих писем, статей, интервью, которые он вкладывает в уста главного героя Влада Самсонова.

Эту книгу надо было назвать «Книгой неожиданных открытий». Вы прочитываете рассказ, который по своим художественным достоинствам вполне мог принадлежать перу Чехова, Тургенева или Толстого, и вдруг с удивлением сознаете, что имя его автора вам совершенно незнакомо… Такова участь талантливых русских писателей – эмигрантов, печатавших свои произведения «на Чужбине», как обозначил место издания своих книг один из них.В книгу вошли также короткие рассказы таких именитых писателей, как Алексей Ремизов, Иван Шмелев, Евгений Замятин, Федор Степун, Надежда Тэффи.

Владимир Емельянович Максимов (Лев Алексеевич Самсонов) — один из крупнейших русских писателей и публицистов конца XX — начала XXI в. В 1973 году он был исключен из Союза писателей Москвы за роман «Семь дней творения». Максимов выехал во Францию и был лишен советского гражданства. На чужбине он основал журнал «Континент», вокруг собрались наиболее активные силы эмиграции «третьей волны» (в т. ч. А. И. Солженицын и А. А. Галич; среди членов редколлегии журнала — В. П. Некрасов, И. А. Бродский, Э. И. Неизвестный, А. Д. Сахаров). После распада СССР В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В подборке рассказов в журнале "Иностранная литература" популяризатор математики Мартин Гарднер, известный также как автор фантастических рассказов о профессоре Сляпенарском, предстает мастером короткой реалистической прозы, пронизанной тонким юмором и гуманизмом.
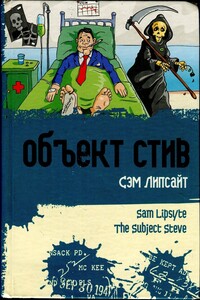
…Я не помню, что там были за хорошие новости. А вот плохие оказались действительно плохими. Я умирал от чего-то — от этого еще никто и никогда не умирал. Я умирал от чего-то абсолютно, фантастически нового…Совершенно обычный постмодернистский гражданин Стив (имя вымышленное) — бывший муж, несостоятельный отец и автор бессмертного лозунга «Как тебе понравилось завтра?» — может умирать от скуки. Такова реакция на информационный век. Гуру-садист Центра Внеконфессионального Восстановления и Искупления считает иначе.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».