Кант - [37]
Кант прав, что судить о людях надо не только по их поступкам, но и по мотивам, которыми они в этих поступках руководствуются. Не лишено оснований ни недоверие Канта к прекраснодушным обещаниям «осчастливить всех», ни его упование на общий нравственный интерес, который призван возвыситься над пестротой многообразия частных эмпирических стремлений. Но он не учитывает того, что поступки все же никак не менее важны, чем их мотивы, и приучение к правильным поступкам есть одно из средств воспитания нравственных чувств. Ведь «в начале было дело». Неправильно и вырывать пропасть между долгом и счастьем. Неверно превращать человека в холодного служителя долга, наоборот, долг должен быть таким, чтобы он служил счастью людей. А с другой стороны, сознание выполненного долга разве не делает людей счастливыми? Гуманистические стремления никогда не ослабляют верно понимаемого долга, но, наоборот, способствуют его исполнению. Из всех мотивов нравственного поступка Кант избирает предельно общий и потому неизбежно наиболее формально понятый мотив, максимально далекий от чувственности. Но он ошибся, так как никакая нравственность не существует без чувственности, т. е. как чистая нравственность. Другими словами, под чистой совестью он невольно понимает совесть, никогда не действовавшую в сложных житейских ситуациях (см. 73, стр. 124). Долг практикуемый не может оставаться долгом, замкнутым в своей «чистой» самодостаточности.
И все же Кант надеялся, что долг сможет сохранить свою девственную чистоту. В статье «О поговорке „может быть, это и верно в теории, но не годится для практики“» он развивает апологию долга в духе крайнего ригоризма. Не проявляя ни малейшего колебания даже в случае самых гротескных ситуаций, он придерживается того мнения, что и самое ничтожное и практикуемое в виде исключения нарушение долга было бы для моральной практики крайне губительно. Ведь «долг есть необходимость [совершения] поступка из уважения к закону» (11, т. 4, ч. 1, стр. 236) морали, именно не признающая никаких исключений.
Долг есть могучая сила бескомпромиссной совести, и своим «торжественным величием» он создает фундамент человеческого достоинства. Широко известна и часто цитируется знаменитая тирада Канта, начинающаяся со слов: «Долг! Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям, ты требуешь подчинения, хотя, чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы естественное отвращение в душе и пугало бы».
Таким образом, если французские материалисты теоретически утверждали буржуазные идеалы в виде этики земного счастья для всех без исключения, то Кант утверждает их в виде этики тотального долга, также не знающей никаких исключений. Но тем самым Кантов идеал «всеобщего законодательства» приобретает еще более, чем у его предшественников, иллюзорно надклассовый облик. Стремясь объять все многообразие жизненных положений и коллизий путем приведения их к единому знаменателю всеобщего долженствования, философ создал для них настолько растяжимые рамки, что в течение двух последующих столетий как среди академических профессоров-неокантианцев, так и среди ревизионистов марксизма нашлось немало охотников вкладывать в них самое различное — и чаще всего далекое от подлинных мыслей Канта — содержание.
Абстрактность и компромиссность не единственные изъяны этики Канта. Ее раздирает глубокое противоречие, вытекающее из ее собственных теоретических посылок, не имеющих ясной онтологической основы. На самом деле Кант утверждает, что человек должен добровольно и свободно подчиниться зову категорического императива, выполняя его с наивозможной полнотой. Ведь насильственная мораль лишена смысла. Но человек приобщен к свободе лишь как ноуменальная личность, член мира вещей в себе. В феноменальной жизни и в своих поисках счастья человек подчинен строгой детерминации, и потому для мира явлений естественна только этика гипотетических императивов. Онтологическая раздвоенность человека приводит к этической дисгармонии. Однако практический интерес требует, чтобы мораль и свобода утвердились именно в посюсторонней, практической жизни, а не в жизни потусторонней, где «практика» теряет всякий смысл. Недаром Кант придал категорическому императиву, между прочим, и такую форму: поступай так, чтобы максимы твоего поведения могли бы стать всеобщими законами природы. Значит, эти максимы должны, так сказать, оттеснить эгоистическое поведение людей на периферию их деятельности, если не вытеснить его совсем. Для реализации категорического императива как раз требуется, чтобы основы (всеобщего морального законоположения стали максимами, т. е. правилами поведения в эмпирической жизни. И это, по мнению Канта, происходит. «Практическая свобода может быть доказана опытом» (11, т. 3, стр. 159). Как же это и на какой онтологической базе могло бы быть осуществлено?
11. Онтологические основания этики. Проблема религии
Согласование двух типов поведения в этике Канта в такой исходной ситуации, когда эмпирическая жизнь людей без изъятия следует гипотетическим императивам, может быть понято только так: любой, но тот же самый поступок легален для одного и морален для другого мира (из мира явлений здесь исключены все нелегальные поступки-преступления, хотя не совсем ясно, каким именно образом). Значит, у каждого фактически совершенного поступка налицо две различные мотивации, и он легален и морален

В книге дается краткий очерк жизни и анализ воззрений видного английского философа XVIII в. Д. Юма.Автор критикует его субъективно-идеалистическую и агностическую концепцию и вместе с тем показывает значение юмовской постановки вопроса о содержании категории причинности, заслугу философа в критике религии и церкви.
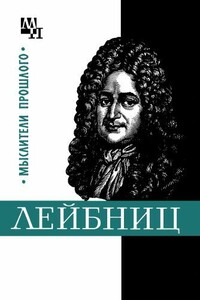
В книге дается анализ метода и философской системы Лейбница, мыслителя, предвосхитившего многие философские и научные идеи XIX–XX вв. Автор разбирает основные произведения Лейбница, излагает его учение о бытии, теорию познания, этику.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей философии, а также историей науки.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.