Кант - [35]
Соотношение между легальными и моральными поступками, между гипотетическими и категорическими императивами у Канта таково, что первые принижены, но не унижены: они оправданы несовершенной моралью и не «моральны», но они не антиморальны. Ведь один и тот же поступок, например спасение утопающего, если отвлечься от его мотивов (одно дело — расчет на награду и другое — бескорыстное стремление из одного только чувства долга), может оказаться и легальным и моральным. В одном и том же поступке могут соединяться оба типа поведения и «случайно».
Разграничительная линия между теми и другими поступками проходит на основании различия в их мотивах. Внимание Канта не столько к содержанию поступков, сколько к их мотивам говорит именно о неформальном подходе его к вопросу об оценке поведения людей. Важно не внешнее совпадение поступка по его «структуре» с требованием нравственного долга, но желание именно ему следовать, и притом ради долга, как такового, а не ради того, чтобы прослыть нравственным человеком и вызвать к себе симпатию, а заодно исполниться приятным чувством морального превосходства. Кант разъясняет, что в случае легального поступка это приятное чувство может ему предшествовать в виде предвкушения состояния самодовольства, но в поступке моральном нравственный закон и сам поступок непременно появляются одновременно. Интересно, что у Канта по сути дела именно этика легальных поступков приводит к формализму: ведь критерий «легальности» состоит именно в формальном соответствии поступков требованиям нравственности, хотя содержание сознания и внутренняя установка того, кто эти поступки совершает, могут не иметь с нравственностью ничего общего.
Этика легальных поступков соответствует области обыденного нравственного сознания, но также, как уже отмечено, и этике «разумного эгоизма» Гольбаха и Гельвеция. Воззрения Канта на нее низводят ее до уровня обычного буржуазного поведения, развенчивая тем самым идеализацию ее просветителями. Кант делает это с той же самой буржуазной позиции, но еще недостаточно развитой и потому еще более охваченной идеализирующими иллюзиями. Незрелость немецкой буржуазии, которая еще не доросла до идей французских просветителей и не решается принять их, — вот что нашло свое выражение в Кантовом противопоставлении «чистой» нравственности «разумному» эгоизму. Предпочитая первую второму, Кант нимало не ниспроверг эгоизма, но зато принизил разумность.
Итак, согласно Канту, нравственно только то поведение, которое полностью ориентировано на требования категорического императива. Этот априорный закон чистого практического разума гласит: «Поступай согласно такой максиме (т. е. субъективному принципу поведения. — И. Н.), которая в то же время сама может стать всеобщим законом» (см. 11, т. 4, ч. 1, стр. 279), т. е. может быть включена в основы всеобщего законодательства. Речь идет здесь о законодательстве в смысле совокупности общеприемлемых правил поведения для всех людей.
Уже из самой общей формулы категорического императива вытекает некоторая конкретизация его требований. Он ориентирует людей на деятельность и общежительность, прилагает предикат моральности к такой деятельности, которая осуществляется с постоянной «оглядкой» на ее социальные последствия и в конечном счете имеет в виду буржуазно понятое благо общества в целом. Кант вкладывает в формулу императива требование жить природосообразно, уважать себя и всех других, отбросить «скупость и ложное смирение». Необходима правдивость, потому что лживость делает невозможным общение между людьми; необходимо соблюдение частной собственности, так как присвоение чужого разрушает доверие между людьми, и т. д.
И все же категорический императив слишком формален. Поэтому его даже сближают с Гольбаховым императивом «разумного эгоизма». Ведь меркой «всеобщего законодательства» оказывается общественная польза, а значит, и личная польза данного члена общества. А далек ли императив Канта по своему содержанию от обывательского правила общежития do ut des?
Нельзя, однако, забывать о форме категорического императива, которая в приведенную выше его формулировку как раз не вошла. Ведь Кант имеет в виду, что, следуя императиву, нельзя искать какой-то, хотя бы и косвенной, для себя выгоды; поступать сообразно императиву надо именно потому и только потому, что это диктуется велением морального долга. Именно наш долг требует содействовать тому, чтобы люди жили, как подобает Людям, т. е. в обществе, а не как животные: «…каждый должен сделать конечной целью высшее возможное в мире благо» (11, т. 4, ч. 2, ст,р. 11).
И все же возникает вопрос: почему так? Потому, что все должно делаться во имя Человека. Абсолютное отрешение от эмпирии оказалось для Канта невозможным, хотя он и пытается убедить своих читателей в том, что не об эмпирических, а о трансцендентных интересах человеческой личности идет речь. Но разве процветание общества не в интересах посюстороннего человека? Ведь Кант дает вторую формулировку категорического императива: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» (11, т. 4, ч. 1, стр. 270). Существование человека «имеет в себе самом высшую цель…», недаром достоинство его личности выше любой другой ценности в мире: «…только нравственность и человечество, поскольку оно к ней способно, обладают достоинством» (11, т. 4, ч. 1, стр. 277). Итак, веление долга означает

В книге дается краткий очерк жизни и анализ воззрений видного английского философа XVIII в. Д. Юма.Автор критикует его субъективно-идеалистическую и агностическую концепцию и вместе с тем показывает значение юмовской постановки вопроса о содержании категории причинности, заслугу философа в критике религии и церкви.
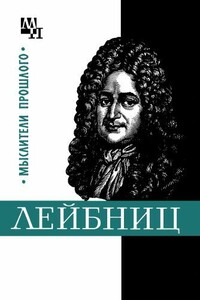
В книге дается анализ метода и философской системы Лейбница, мыслителя, предвосхитившего многие философские и научные идеи XIX–XX вв. Автор разбирает основные произведения Лейбница, излагает его учение о бытии, теорию познания, этику.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей философии, а также историей науки.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.
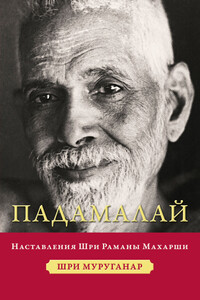
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.