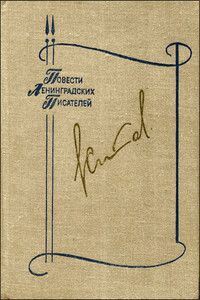Камыши - [55]
Я действительно переехал в город, а когда привез Олю из больницы, осваивал одиночество и даже пробовал стучать на машинке, но все получалось дерганое, рваное, с нажимом.
Однако до мая раза два-три в месяц я еще бывал в «шалаше». И той последней весной, приезжая в Комарово, я наблюдал, как подтаивал скатанный в Новый год чернеющий круглый ком, остаток от бойкой и очень задорной снежной бабы. Глаза — черные угольки — лежали уже на земле, промерзшая и все еще красная морковка валялась тут же. Я разглядывал, как покосился ком, треснул и вот-вот развалится. Бывало, что по утрам этот исчезающий шар, как скорлупой, затягивало ледком, и тогда он сверкал и блестел на солнце, становясь еще привлекательнее, чем прежде. Но это уже была иллюзия. Каждый день он становился все тоньше, чернее, был уже совсем рыхлым, пористым, исчезал, доживая свои часы. В конце концов он исчез, а я уехал в деревню, на родину к деду.
В мае я понял, что произошло самое страшное. Меня стала раздражать Олина стройность. А потом и Олино трудолюбие. Мне казалось чем-то неестественным ее не освященное никаким богом упрямое корпение над листами бумаги. Не труд, а какое-то заколдованное рукоблудие.
В июне, спасибо Петьке Скворцову, мы с ним аккуратно посещали пивные бары. Петька как мог утешал меня. И я, незаметно для себя, снова начал переключаться на прежние скорости и жить прошлым. И все чаще вспоминал Костю.
В июле я поймал себя на том, что холодными глазами наблюдаю за Олей. И как-то, когда мы завтракали, я ей между прочим сказал, что еще в сорок третьем пытался открыть причину рака.
— Мне трудно, мне трудно, мне трудно с тобой! — вспылила она. — Что ты хочешь этим сказать? Ведь ты же не ученый, не врач. Что, что это значит? За что ты ненавидишь меня?
Мы уже катили каждый на колесе своего диаметра.
— Ну, очень просто, — пожал я плечами. — Какой же я писатель, если до сих пор ничего не открыл?
— Мне трудно. Мне трудно! — закричала Оля со своего высокого колеса. — В том, что ты говоришь, есть какой-то смысл. Но я устала. Я хочу самой обыкновенной, спокойной жизни. Просто жить и ничем не забивать себе голову. Да, я архимещанка. Я устала. Нам, наверное, нужно отдохнуть друг от друга. Ты никогда не поймешь меня. Мы люди разного времени.
Я согласился с ней. Меня тянуло к стареньким паровозам, к пассажирам из прошлого, к окошку, за которым бежали бы знакомые мне места, болота и реки…
…Светящиеся тугой желтизной, налитые жиром и даже как будто до сих пор пахнущие морем, то, оказывается, были гирлянды великолепной вяленой рыбы, издали видно, что сочной и мягкой — если взять в руки, на боках останутся вмятины от пальцев. Это были гирлянды подобранных один к одному редкостных азовских рыбцов, свисавшие до пола, вероятно очень тяжелые. Они-то прежде и представлялись мне шевелящимися.
Свет из окна все еще резал глаза, но, пожалуй, уже не так сильно. Наверное, было совеем раннее утро. В доносившемся токе воздуха ощущалась еще не тронутая солнцем свежесть. Мне хотелось вздохнуть как можно глубже, осмотреться и, может быть, встать. Было тихо, и я понял, что длинный стол опустел. Потом я услышал чей-то молодой сильный голос:
— А бригада где? Я тебе говорю: бригада где? — Слова были произнесены словно сквозь зубы.
В голубом проеме распахнутой настежь двери я увидел человека в ослепительно белой рубашке.
— Всю ночь поминали? — добавил он.
Возле стола и совсем недалеко от меня сидел кто-то неподвижный, серый, чем-то похожий на камень-валун. Он не отвечал и не двигался. Левый локоть его лежал на столе, около графина, который наполовину был еще с содержимым, с какой-то красно-черной жидкостью, и, если этот локоть подвинется еще, графин полетит на пол.
— Я тебя спрашиваю: бригада… бригада выехала?
Я вспомнил: в тот вечер, когда убили Назарова, на лимане был человек в белой рубашке.
— …Мне рыба нужна! У меня машины уже стоят. — Потом вынул из кармана какой-то листок и протянул: — Повестку тебе опять привезли.
Тот, кто сидел за столом, не встал.
— Бригада выехала, — наконец нехотя ответил он, не поднимай головы. И я по голосу понял, что это Прохор. — Бригада в лимане. Где ей надо. Не твое дело. — Похоже, что язык у него заплетался. — Кирпичи принес — занимайся. Строй. Иди. Не будет у нас никаких разговоров. Еще весной тебе все сказал. И… ну, точка. — И, словно чувствуя, как опасно лежит его локоть, он убрал его, погрозил пальцем у себя перед носом, потом глубоко вздохнул, но головы так и не поднял. — Нет рыбы. Мелочь. Три раза вчера выезжали…
— А ты, значит, допиваешь? Хоть за мертвого, хоть за живого? — Слова снова были процежены сквозь зубы. — Или ты тут сидишь меня караулишь? Повестку-то возьми. А может, сказал уже там, зачем в лимане был и ружье брал? — За его спиной, во дворе, была растянута, сушилась сеть, и мне казалось, поднимая руки, жестикулируя, он барахтался точно в паутине: хотел ступить на порог, войти в комнату, но не мог этого сделать.
— Ну жди, жди, — обронил Прохор, но как бы самому себе. — А не выйдет. Думал, меня упрячут? На это надеялся? Знаю… Нет, по-другому пошло. И тебя тронут…
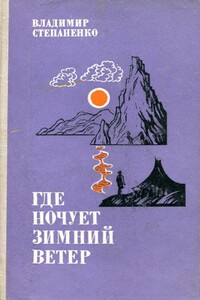
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В повестях калининского прозаика Юрия Козлова с художественной достоверностью прослеживается судьба героев с их детства до времени суровых испытаний в годы Великой Отечественной войны, когда они, еще не переступив порога юности, добиваются призыва в армию и достойно заменяют погибших на полях сражений отцов и старших братьев. Завершает книгу повесть «Из эвенкийской тетради», герои которой — все те же недавние молодые защитники Родины — приезжают с геологической экспедицией осваивать природные богатства сибирской тайги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.