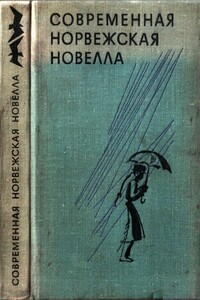Камень на камень - [96]
— Петрушка ты, засранец. — Он уже едва дышал, но умудрился вцепиться в мою куртку и держался как утопающий.
— Орел. — Я от бешенства разум потерял и все сильнее сжимал у него на шее пальцы. Буфетчица подняла крик, что позовет жандармов.
— Так его. Не пожалей крестному, — подзуживал Рябина.
В это время в корчму вбежал Береза и дал знак, что тот сукин сын уже ходит по базару.
— Отпустите, крестный! — крикнул я. Но он ни в какую. Тогда я, не долго думая, врезал ему промеж глаз, у него кровь из носу и глаза осоловели.
— Петрушка, — прохрипел он.
— Орел. — Я еще добавил.
— Не бей. Не бей больше. Будь по-твоему, Орел.
VII. АЛЛИЛУЙЯ
Не знаю, умер ли бог, воскрес ли, правда ли все это, но свяченые яйца по вкусу не сравнишь с несвячеными. И никто меня не уговорит, что только так кажется. В обычные дни я могу вовсе не есть яиц, а свяченых съем десяток враз — и хоть бы что. Ни хлеба мне не надо, была бы соль, тоже, ясное дело, свяченая. А вкусней всего с хреном, и хрен не только свяченый должен быть, но и крепкий, чтоб шибало в нос.
Пекла мать на пасху куличи, славились ее куличи в деревне. Все предновье могло не быть муки, даже на закваску для жура, но на куличи мать сразу после жатвы, как просеют свежую муку, откладывала: это на куличи, а на остальное — покуда хватит. Когда же приносила с чердака один из этих куличей, потому что испеченные сразу упрятывались на чердак, отец, Михал, Антек, Сташек облепляли стол, как куницы прорубь, и аж слюнки у них текли, пока мать резала кулич. А мне свяченые яйца все равно больше нравились. И мы почти всегда менялись, я которому-нибудь отдавал свой кусок кулича, а он мне яичко.
Если бы не свяченые яйца, по мне, пасхи могло б и не быть. Да и что это, по правде говоря, за праздник? Ни зима, ни весна. Вдобавок никогда не знаешь, на какие числа придется. Всякий раз надо в календарь заглядывать, чего в нем написано. Хочешь знать, покупай что ни год новый календарь, будто так уж трудно раз и навсегда запомнить. Я родился в великую пятницу, а сказать, что в великую пятницу, не могу, потому как каждый год великая пятница в другое время. Так, может, и Иисус Христос не умер и не воскрес, коли всякий год иначе?
Куда лучше рождество. Всегда в один день. Ни в какие календари не надо глядеть. И притом год кончается, а ни разу еще не выпадал такой год, чтоб хотелось его задержать. Ну и колядки петь я люблю. Раньше, бывало, запоем дома все вместе, стены дрожат. А выйдешь на деревню послушать, как в других домах поют, покажется, будто вифлеемская звезда, что над хлевом взошла, вот-вот слетит с небес. Тут поют, там поют, у всех соседей поют, и на краю деревни, и даже где-то за околицей, далеко-далеко.
И теперь еще, когда приходит сочельник, я не прочь попеть. Колядки и одному петь можно, иногда даже кажется, будто мы, как раньше, все вместе поем. А больше всего я люблю «Бог родится». Остался у меня какой-никакой голос от прежних лет, затяну — как в былые времена стены дрожат. У соседей и то перестают петь, чтобы меня послушать. Эй, Шимек поет, потише там. А когда мороз — в дальнем конце деревни слыхать. И даже Михал всматривается в это мое пенье, точно хочет, чтобы я никогда не умолкал.
Иногда я и его уговариваю, хочешь, научу, будем петь вдвоем. Повторяй за мной — «бог родится». Сперва слова, а мелодию потом. Слова нетрудные. Бог — это бог, понятно. А родится — тоже ясно. Я родился, ты родился. Собака родится, кошка, жеребенок, теленок. Все, что хочет жить, должно родиться. Помнишь, у нас весной цыплята были, так они тоже родились, только из яиц. Раньше мы на каждое рождество это пели. Садились за стол, правда, стол был другой, я, ты, отец, мать, Антек, а Сташек у матери на руках. Мать, пока накладывала на тарелки кутью, всегда тебе его подержать давала, потому что у тебя он не плакал. Раз даже на колени тебе напрудил. Бог родится — это только поется так, не бойся.
Хотя в молодости я и пасху любил. В пожарниках служил, так всегда в великую пятницу мы стояли в карауле у гроба господня. В мундирах, подпоясанные ремнями, с топориками на боку, и еще старались друг дружку перещеголять, на ком больше блеска. За неделю драили каску и сапоги. Каску сперва хорошенько начищали золой, потом слюною, потом суконкой, так она сверкала не хуже дароносицы, а человек в ней смахивал на святого Георгия, а может, на какого другого святого, не помню, который из них каску носил. А сапоги лучше всего было чистить сажей со сметаной, а блеск наводить заячьей шкуркой. Только сперва набегаешься, покуда раздобудешь эти сапоги. Ни у кого из ребят не было офицерских сапог, были кое в каких домах, но только у зажиточных хозяев. В карауле мы стояли по четверо, поэтому требовалось целых восемь пар, чтобы мы могли сменяться, к тому же ноги у всех разные, случалось, в другие деревни отправлялись за этими сапогами, и все равно редко когда они всем были впору. Приходилось и в тесноватых стоять. Они жгли, давили, ноги до колен застывали, а тут еще люди придут на гроб посмотреть, так и на нас смотрят, а потом в деревне только и разговоров; этот криво стоял, тот покачивался, тот моргал как заведенный. Но про меня всегда — что прямо, по струнке.

Сборник включает повести трех современных польских писателей: В. Маха «Жизнь большая и малая», В. Мысливского «Голый сад» и Е. Вавжака «Линия». Разные по тематике, все эти повести рассказывают о жизни Польши в послевоенные десятилетия. Читатель познакомится с жизнью польской деревни, жизнью партийных работников.

Меня мачеха убила, Мой отец меня же съел. Моя милая сестричка Мои косточки собрала, Во платочек их связала И под деревцем сложила. Чивик, чивик! Что я за славная птичка! (Сказка о заколдованном дереве. Якоб и Вильгельм Гримм) Впервые в России: полное собрание сказок, собранных братьями Гримм в неадаптированном варианте для взрослых! Многие известные сказки в оригинале заканчиваются вовсе не счастливо. Дело в том, что в братья Гримм писали свои произведения для взрослых, поэтому сюжеты неадаптированных версий «Золушки», «Белоснежки» и многих других добрых детских сказок легко могли бы лечь в основу сценария современного фильма ужасов. Сестры Золушки обрезают себе часть ступни, чтобы влезть в хрустальную туфельку, принц из сказки про Рапунцель выкалывает себе ветками глаза, а «добрые» родители Гензеля и Гретель отрубают своим детям руки и ноги.
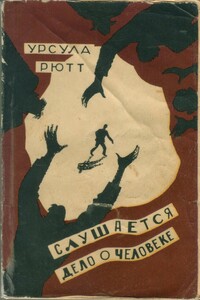
Аннотации в книге нет.В романе изображаются бездушная бюрократическая машина, мздоимство, круговая порука, казарменная муштра, господствующие в магистрате некоего западногерманского города. В герое этой книги — Мартине Брунере — нет ничего героического. Скромный чиновник, он мечтает о немногом: в меру своих сил помогать горожанам, которые обращаются в магистрат, по возможности, в доступных ему наискромнейших масштабах, устранять зло и делать хотя бы крошечные добрые дела, а в свободное от службы время жить спокойной и тихой семейной жизнью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В каждом доме есть свой скелет в шкафу… Стоит лишь чуть приоткрыть дверцу, и семейные тайны, которые до сих пор оставались в тени, во всей их безжалостной неприглядности проступают на свет, и тогда меняется буквально все…Близкие люди становятся врагами, а их существование превращается в поединок амбиций, войну обвинений и упреков.…Узнав об измене мужа, Бет даже не предполагала, что это далеко не последнее шокирующее открытие, которое ей предстоит после двадцати пяти лет совместной жизни. Сумеет ли она теперь думать о будущем, если прошлое приходится непрерывно «переписывать»? Но и Адам, неверный муж, похоже, совсем не рад «свободе» и не представляет, как именно ею воспользоваться…И что с этим делать Мэг, их дочери, которая старается поддерживать мать, но не готова окончательно оттолкнуть отца?..