Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы - [106]
Я взглянул на него с изумлением, он это почувствовал.
— Тебя удивляет, что я говорю об этом сейчас, в такой тихий прекрасный вечер? Этот стук не дает мне покоя. Слышишь?
За фруктовыми деревьями, над ручьем раздавались монотонные удары топора.
— Дровосек? — спросил я.
— Да, дровосек, старик Дёрдь. Этот стук, этот человек всегда вызывают у меня в памяти одно страшное воспоминание — одну сцену, которой в детстве я стал свидетелем. Пойдем — заодно и прогуляемся — я покажу тебе его… и расскажу…
Мы прошли сквозь виноградную беседку, через небольшой фруктовый сад и вышли к тому месту, которое в простонародье называется «околицей». Издали меж веселых яблонь ярко сверкал ручей, и эхо от ударов топора, похожих на стук какого-то таинственного большого дятла, удерживалось здесь в чистом, безмолвном воздухе намного дольше. Пораженный, я внезапно остановился: на берегу ручья колол дрова самый настоящий сатир.
Он был крепкого сложения, но невысокого роста и невероятно сгорбленный. Из-под его тяжелого лба бесконечно тоскливо глядели налитые кровью глаза. Руки, точно чудовищно длинные полипы, свисали чуть ли не до земли под тяжестью огромных лапищ. Мне почудилось, что лапы эти свинцовые. Уныло поникшие голова и плечи, эти свисающие до земли длинные руки делали его похожим на сильного лесного зверя, не приспособленного ходить по земле, на какого-то чудного ленивца или орангутанга. И движения его были такие же — чудные, медлительные, тяжелые.
С плеч этого неуклюжего, звероподобного существа свисал с неуместной величавостью драный, обтрепанный, выцветший парадный сюртук. Весь в старых пятнах и в налипшей стружке. На голове была засаленная шляпа-котелок с вдавленной тульей. Это одеяние еще больше усиливало ощущение тяжеловесности и нечистоты, которое исходило от его уродства и, казалось, расплывалось вокруг него по воздуху, как влажное пятно на чистом платье.
— Ну, Дёрдь, скажи нам, какая будет погода? — спросил мой друг, подойдя к нему.
— Плохая, барин, очень плохая, — тут же ответил он, а потом, побагровев вдруг и закатив налитые кровью глаза, словно его охватил приступ ярости, закричал хриплым голосом: — Не слушайте вы этого Фалба!
— У него навязчивая идея, — сказал мой друг, когда мы уже пошли дальше, — будто он ученый и умеет предсказывать погоду, и в эту черную хламиду он облачился потому, что мнит себя ученым. Погода на таких людей действует как гипноз, парализует их разум. Погода для них — судьба, рок, среда обитания, постоянно зримое деяние Бога, повседневное чудо. Вся их ученость, вся страсть их умов устремлена на одно — предсказывать погоду.
— Но как он может предсказывать плохую погоду, когда так ярко сияет солнце?
— Он возвещает о своих тайных желаниях. Взгляни на него, — произнес мой друг, внезапно остановившись. — Представь, что может чувствовать это существо, это ничтожество под таким высоким, сияющим небом? Его стихия — дождь, грязь, лужи, только в такую погоду он чувствует себя уверенно. Думаешь, он этого не понимает? Он всегда пророчит непогоду.
— Ты приписываешь ему чрезмерную чувствительность.
— Нет, я просто понимаю его, — ответил он.
Я с любопытством смотрел то на своего друга, то на старого Дёрдя. И я начинал понимать их. В старом дровосеке я с особой отчетливостью ощутил ту странную, невыразимую грусть, которую столько раз угадывал в лице и жестах моего друга, в едва уловимых оттенках чувств. Когда старый Дёрдь торжественно, словно исполняя неторопливый обряд какой-то экзотической религии, неловко пригнув голову, пилил бревно, на него давила тяжелым грузом — я знал уже, что это было — великая меланхолия уродства, мучительное сознание своей безобразности.
— Поэтому он и сделался ученым, — продолжал мой друг. — Для самоутверждения нужна была какая-то опора. И он ее нашел: в этом городе все говорят о погоде, с погодой связывают любые планы, любое настроение. Знать погоду наперед — какое это дает превосходство, какую власть! Ты не замечал раньше, что Уроды всегда жаждут власти? Для них — это сила в борьбе с красотой, в порабощении красоты; это их защита от уродства и месть за него.
Помолчав, мой друг заговорил снова:
— Дёрдь потому стал ученым, что знание, как и красота, — это власть. И исполняя свой грязный рабский труд, он несет свою ученость с тем же достоинством, что и ее знак — этот драный сюртук; только и ученость его тоже жалкая, поношенная, с хозяйского плеча. Плохонькая сальная свечка все же светит в его мозгу, и он, по крайней мере, видит великий мрак вокруг. А этот Рудольф Фалб, представь, вот уже двадцать лет — его счастливый соперник. Я знаю Дёрдя двадцать лет, с самого моего детства, когда главным предсказателем погоды был еще Фалб; с тех пор Дёрдь не изменился. Бег времени отражается только на красивых, уродство же остается вечно неизменным. Сколько бы ты дал старому Дёрдю? Уверяю тебя, он был точно таким же и двадцать лет назад, когда бегал в городскую управу с нелепыми прошениями, чтобы его назначили на должность предсказателя погоды; подписывался он тогда «ученый и дровосек».
Я рассмеялся.
— Не смейся, — сказал он, — я такой же. Ты думаешь, мой дилетантизм не сродни его учености? Не смейся над ним. Психология уродства в том, что оно агрессивно и постоянно самоутверждается. И это грустно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франсиско Эррера Веладо рассказывает о Сальвадоре 20-х годов, о тех днях, когда в стране еще не наступило «черное тридцатилетие» военно-фашистских диктатур. Рассказы старого поэта и прозаика подкупают пронизывающей их любовью к простому человеку, удивительно тонким юмором, непринужденностью изложения. В жанровых картинках, написанных явно с натуры и насыщенных подлинной народностью, видный сальвадорский писатель сумел красочно передать своеобразие жизни и быта своих соотечественников. Ю. Дашкевич.
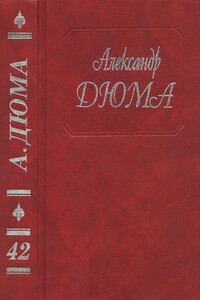
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
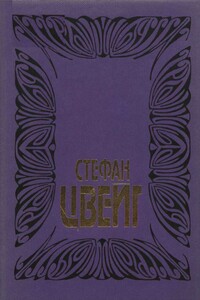
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 - 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В десятый том Собрания сочинений вошли стихотворения С. Цвейга, исторические миниатюры из цикла «Звездные часы человечества», ранее не публиковавшиеся на русском языке, статьи, очерки, эссе и роман «Кристина Хофленер».
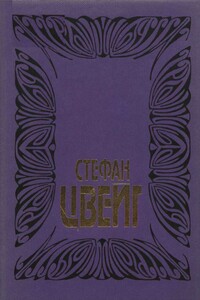
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В второй том вошли новеллы под названием «Незримая коллекция», легенды, исторические миниатюры «Роковые мгновения» и «Звездные часы человечества».
