Каленая соль - [4]
– Вон оно каково обернулося, – заговорил снова Кузьма, как только затих смех. – Свой на своего пошел. Мужик, аки приблудный лях, стал: токмо бы татьбой промышлять да честный люд зорить. На слезах да крови разживатися…
– По твоему разумению, Минич, – прервал его рыжий старичонка, – пущай своя плеть хлещет, хоть и лютее – зато своя.
– Богу виднее, – смешался Кузьма.
– То-то и оно, убитися лопатой, – тряхнул бороденкой рыжий. – Пошто же ты за нас вступился?..
5
Не распрягая лошади, Кузьма наведался к сестре. Дарья кинулась ему на грудь, заплакала. С блеклым лицом, простоволосая, в застиранной поневе, она показалась ему такой жалкой и слабой, что ему самому впору было прослезиться.
– Побойся бога, Дашутка, – ласково утешал он. – Перестань влагой кропить. Аль я не в радость тебе?
– В радость, в радость, Кузема, – отвечала она, вытирая ладонями мокрые щеки. – В кои-то веки пожаловал, ужель не в радость!.. Ой, да что же я, – засуетилась тут же, – чай, голоден? Хоть и рождественное заговенье ныне, для тебя согрешу. Фотинка, ну-ка лезь в погребицу за медвежатинкой!..
– Кто медведя-то завалил, неужто Фотин? – полюбопытствовал Кузьма.
– С товарищем родили, на рогатину взяли. Да то уж не первый у него, – как о чем-то обычном, сказала Дарья.
За оконцами смеркалось. В честь Кузьмы сестра поставила на стол две толстые сальные свечи. Их ровное мерцание успокаивало, умиротворяло. В истопленной по-белому избе было уютно, тесовый стол и лавки сияли чистой желтизной, умиленно смотрела богородица из красного угла. Все тут было для Кузьмы пригоже. Староват дом, да прочен, невелик, да приветен. И старые стены крепко срубленного отцовского дома, в котором теперь жила сестрина семья, напоминали Кузьме о давней поре, чудесных ребяческих снах, мягко шуршащем веретене в руках матери. Оглядывая родной приют, Кузьма заметил висящий на крюке у двери летний азям.
– А где же Еремей? – спросил он о хозяине, садясь на лавку.
Перестав уставлять стол глиняными и деревянными чашками с моченой брусникой и пластовой капустой, медом и рыбными пирогами, Дарья снова чуть не заплакала.
– Уехал непутевый, – горько отозвалась она. – Как ни умоляла, уехал. Еще по осени с монастырской да своей солью подался в Троицку обитель. Вон уж сколь прошло – ни слуху ни духу. А время-то ныне страшное…
Лоб ее с крупными оспинами наморщился, только что расторопно двигавшая посуду, она обессиленно опустилась на лавку, устало сложила руки на коленях.
– Иван-то с Федором куда подевалися? – спросил Кузьма о старших братьях.
– Куды им подеватися: добытчики своего не упустят! В лесу, чай. Самая пора для них вдосталь дровами запастися для варни. В лесу и пребывают, от всякого лиха в стороне. Смута их не касаема…
В словах сестры Кузьме послышался укор, словно она винила братьев за безучастие ко всему, опричь своего промысла. А ведь братья, поставив себе новые хоромы, отказали ей отцовский дом, не обошли заботой. Неустанно бы благодарить должна, однако вот оставили же ее без защиты в такую злую пору, когда она оказалась одна, и Дарья, верно, была обижена на них.
– Со двора не выхожу, – продолжала она. – Шумят, палят кругом. Так бы и затворилася в погребице. Что деется – не разумею. И Фотинку пытаюся удержать, а он, бес, все наружу рвется, отца искать норовит. Бычище бычищем, осьмнадцатый год, а в полный разум-то не вошел. Женить бы его… Ты-то, братка, к нам с какой оказией?
– С войском я тут. При обозе, при кормах поставлен.
– Никак не уймутся наши. Ай поделом им! Но и суди сам, тяжкое настало житье. Промысел бросили, варни пустеют. Мыкаются мужики, а тут на них побор за побором…
Дарья говорила и говорила, а перед глазами Кузьмы мерцали, колебались огоньки свечей. И мнилось: мелькают тяжелые бадьи с густым едучим раствором, скрипят ржавые, залепленные соляной сыпью цепи на колодезных воротах, и стекает по краям прочерневших колод жижа, которая выплескивается из бадей. Одна за другой виделись продымленные, душные клети-варницы, где над огромными закопченными цренами с кипящим рассолом густо клубятся испарения, и работный люд в таких же прожженных зипунишках и шубейках, как у недавно спорившего рыжего старичонки, суетится у огня, поправляя горящие плахи и задыхаясь от ядовитого смрада и дыма. Виделся ему среди варщиков и его отец, с измазанным озабоченным лицом, большими, в язвах хваткими руками, успевавшими все делать ловко и сноровисто. Адом отец называл свою работу, адом виделась она и Кузьме с малых лет.
– Да что ж я! – вдруг всплеснула руками Дарья. – Все толкую да толкую. А ты и не ешь ничего.
– Нет ли у тебя, сестрица, каленой соли, – попросил Кузьма. – Зело ее маманя любила…
– Как не бывати! Вон в солонке-то. В страстной четверг нажжена.
Кузьма взял щепоть, круто посолил краюху, откусил – прижмурился, как в детстве. Не зря каленая соль считалась лакомством.
Готовили ее из обычной, заворачивая в тряпицу, смоченную квасной гущей, и помещая в старый лапоток. Лапоток клали с краю на поленья в печь. После обжига соль становилась черно-серой, пропадали в ней жгучая острота, горечь и едкость. Никуда она особо не была годна, только на свежую краюху, но, собираясь в дальнюю дорогу, русский человек обязательно совал в котомку вместе с хлебом и коробушку с этой несравнимой ни с чем по вкусу домашней солью.
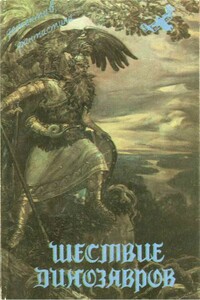
Долголетняя смута царствует на Москве: ляхи, черкасы, изменники-бояре, смутьяны и самозванцы разоряют русскую землю, а в Нижнем Новгороде собирает ополчение посадский человек Кузьма Минич…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.