Каким ты вернешься? - [56]
Я вспоминаю свою жизнь. Я слишком много терял на своем пути.
Сначала тихую старушку, рассказывающую сказки, потом — мать, потом — друга, с которым делил последний огарок свечи, потом — любимую… Такой непосильной ценой я платил за все, что приобретал, — опыт, интеллект, знания. Но я знал, что и это потеряю в конце пути, растворясь в природе. Я часто задавал себе вопросстоит ли жить? — и продолжал путь, потому что нет в мире ничего выше человеческого мужества. И однажды…
Когда это было? Ночь… Бревенчатая изба… С кем-то поговорил, но, с кем и о чем, не могу вспомнить… Свечи давно кончились. При тусклом мерцании сальника составляю и записываю формулы клеточного обмена.
Отрываюсь от бумаги, вспоминаю кусочки своей жизни-разлуки, разлуки…
Их ровно столько же, сколько встреч. Но запоминаются они больше. Ведь встречаясь с человеком, еще не знаешь, кем он станет для тебя. И лишь при разлуке узнаешь это. Слишком поздно…
Опять склоняюсь над бумагами, и приходит мысль: у природы два пути — разложение живого на неживое и создание живого из неживого. Человек в лаборатории пока умеет повторять один ее путь. Но в конце концов человек может всегда научиться всему, что умеет природа. Она не запрещает учиться у нее и превосходить ее. Он повторит и другой путь природы, создав сначала белок, потом клетку.
Тогда-то я написал стихи и забыл о них…
Мне вспомнился Крым, пальмы, лодка на лунной дорожке. Я прихожу к морю попрощаться, хорошо зная, что больше не увижу его. И все же по старинному обычаю бросаю в волну монету. И шелестящая волна подкатывает прямо к моим ногам отшлифованный, мокрый и блестящий камешек.
Я вернулся в Москву, положил камешек в ящик письменного стола и забыл о нем. А вспомнил только спустя два года, когда снова приехал к морю.
Так и о тех своих стихах я вспомнил лишь сейчас, непонятным образом вернувшись в жизнь. Да, непонятным, потому что можно создать клетку, но нельзя воссоздать личность, как нельзя остановить или хотя бы замедлить время.
И все же я пришел в мир. Это непостижимо!
Мы подошли к зданию. Двери подымаются, уходят в стену, открывая вестибюль. Сворачиваем в коридор, попадаем в многоугольный зал.
— Я уже видел этот зал, — говорю Николаю Ивановичу и рассказываю о том, как решал задачу, стоя за окном.
На стенах зала вспыхивают сотни разноцветных огоньков.
Кажется, что это загораются под лучами солнца таинственные письмена.
К нам направляется тот самый молодой блондин, кото-рый беседовал с Ибн-Синой.
— Привет, Николай Иванович! — здоровается он с моим спутником, как со старым приятелем. — А кто с вами?
— Известный биолог и медик. — Николай Иванович называет мою фамилию.
Против ожидания, молодой человек не удивляется, не расплывается в восхищенной улыбке, не рассыпает почтительных комплиментов.
— Рад, — говорит он и представляется: — Ким, один из инженеров этого зала.
Он заводит с Николаем Ивановичем разговор о какой-то математической проблеме. Ким говорит быстро, отрывочно, словно жалеет энергию на слова или торопится. В наше время инженеры были не такими — более солидными с виду, держались степенно. А Ким совсем мальчишка. И к тому же это странное имя.
— Николай Иванович сказал, что вам нужно кое-что объяснить, — обращается он ко мне, и «Николай Иванович» в его устах звучит как «Николаныч».
— Вы находитесь в третьем кибернетическом зале, — говорит Ким. — Здесь установлены машины, моделирующие работу человеческого мозга.
Нервная клетка действует по принципу «да» или «нет», то есть проводит или не проводит в данное время возбуждение. В машинах функции клеток выполняют атомы.
Когда они заряжены квантами, соответствуют состоянию «да», когда не заряжены — состоянию «нет».
«Кибернетические», «кванты», «заряженный атом» — пытаюсь запомнить новые слова. Понимаю далеко не все, смутно улавливая суть. Смотрю на Николая Ивановича и думаю: «Бессмертие…» Разве и раньше я не применял это слово к нему? Разве, изучая его труды, я не восхищался силой логики, не беседовал с ним? Разве не завидовал Ибн-Сине, забывая, что он давно умер, разве не спорил с Аристотелем? Но тот Николай Иванович жил в строгих теоремах, а этот неожиданно появился передо мной, и я вижу его полные губы, слегка сдвинутые брови и крутой открытый лоб.
— Подобные машины, — продолжает Ким, — уже во второй половине двадцатого века писали музыку в стиле определенного композитора или стихи в стиле какого-нибудь поэта. На одной из них происходил первый этап воссоздания вашей личности. В атомную память машины были заложены все данные о вас: ваши труды, стихи, письма, информация о вашем стиле работы, анализ почерка и другое.
Машина определила основные особенности вашего мозга, его быстродействие. Потом по команде самонастроилась на специфику вашего мозга. Если задать ей любую задачу, она решит ее так, как решали бы вы сами. Теперь понимаю, что слышал, стоя за окном.
— А я и не знал, Ким, что вы умеете так отлично и популярно рассказывать, — вмешивается Николай Иванович, и инженер настораживается. Все сразу становится понятным, особливо для человека девятнадцатого века.
В строгих, пристальных глазах Николая Ивановича сверкнули шаловливые искорки, и я вспомнил, что он был не только гениальным математиком и умудренным наставником молодежи, но и тем студентом, который сидел в карцере за «пускание ракеты в одиннадцать часов вечера, чем вызвал колокольный трезвон и всеобщий ужас смирных казанских обывателей».

Произведения, включённые в этот том, рассказывают о Древней Руси периода княжения Изяслава; об изгнании его киевлянами с великокняжеского престола и возвращении в Киев с помощью польского короля Болеслава II ("Изгнание Изяслава", "Изяслав-скиталец", "Ha Красном дворе").

Неспокойно на Киевской Руси после смерти Ярослава Мудрого. На киевском столе сын Ярослава Изяслав, но на границах на беги степняков, бунтует Тмутаракань, а Всеслав Полоцкий так и метит на Киевский стол. Начинаются межусобные войны.
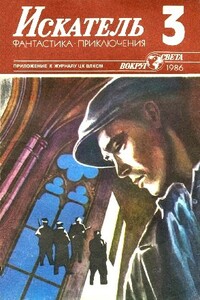
1, 4-я стр. обл. — рисунки Юрия СЕМЕНОВА к повести «ПРЕМЬЕРА БЕЗ РЕПЕТИЦИЙ».2-я стр. обл. — рисунок Павла ДЗЯДУШИНСКОГО к фантастическому рассказу «Я ЗНАЮ: ТЫ СПАСЕШЬ МЕНЯ».3-я стр. обл. — рисунок Константина ПИЛИПЕНКО к фантастической повести «ЗАКОНЫ ЛИДЕРСТВА».

На 1-й стр. обложки — рисунок А. ГУСЕВА к рассказу И. Росоховатского «Напиток жизни».На 2-й стр. обложки — рисунок П. ПАВЛИНОВА к документальной повести Б. Полякова «Молва».На 3-й стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к рассказу Ричарда Росса «Кофейная чашка».

На I–IV и II стр. обложки и на стр. 2 и 38 рисунки П. ПАВЛИНОВА.На III стр. обложки рисунок В. КОЛТУНОВА к роману Рафа Валле «Прощай, полицейский!».На стр. 39 и 53 рисунки Ю. БЕЛЯВСКОГО.На стр. 54 рисунок В. ЛУКЬЯНЦА.

На I, IV странице обложки и на стр. 2 и 63 рисунки Ю. Макарова.На II странице обложки и на стр. 64, 70, 71 и 76 рисунки Н. Тюрина.На III странице обложки и на стр. 84 и 109 рисунки В. Лукьянца.На стр. 77, 83 и 110 рисунки М. Салтыкова.

Зелено-голубая планета очень напоминала Землю, но можно было предположить, что ее флора и фауна таят немало сюрпризов. На очень похожей на Землю планете космолингвист встретил множество человекоподобных аборигенов. Аборигены очень шумны и любопытны. Они тут же принялись раскручивать и развинчивать корабль, бегать вокруг, кидаться палками и камнями. А один из аборигенов лингвисту кого-то напоминал…

Брайтона Мэйна обвиняют в убийстве. Все факты против него. Брайтон же утверждает, что он невиновен — но что значат его слова для присяжных? Остается только одна надежда — на новое чудо техники, машину ЭС — электронного судью.

Биолог, медик, поэт из XIX столетия, предсказавший синтез клетки и восстановление личности, попал в XXI век. Его тело воссоздали по клеткам организма, а структуру мозга, т. е. основную специфику личности — по его делам, трудам, списку проведённых опытов и сделанным из них выводам.

«Каббала» и дешифрование Библии с помощью последовательности букв и цифр. Дешифровка книги книг позволит прочесть прошлое и будущее // Зеркало недели (Киев), 1996, 26 января-2 февраля (№4) – с.

Условия на поверхности нашего спутника малопригодны для жизни, но возможно жизнь существует в лунных пещерах? Проверить это решил биолог Роман Александрович...

Азами называют измерительные приборы, анализаторы запахов. Они довольно точны и применяются в запахолокации. Ученые решили усовершенствовать эти приборы, чтобы они регистрировали любые колебания молекул и различали ультразапахи. Как этого достичь? Ведь у любого прибора есть предел сложности, и азы подошли к нему вплотную.

РОСОХОВАТСКИЙ Игорь Маркович. (р.1929). Украинский писатель-фантаст, прозаик и поэт. Родился в г. Шпола Черкасской области. Окончил факультет языка и литературы Киевского педагогического института им. А.М. Горького. Научный журналист, работал в редакциях украинских газет («Юный ленинец» и др.), автор многих книг и свыше ста научно-популярных статей. Член Союза журналистов и Союза писателей СССР. Живет в Киеве. Печататься начал в 1946 году. В 1954 году в издательстве «Молодь» вышла его первая книга — поэма «Мост (Слово об Иване Кулибине)».
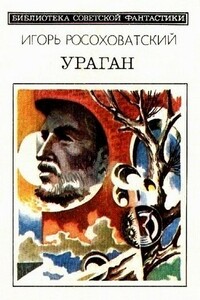
Росоховатский И. Ураган: Научно-фантастические повести и рассказы / Худ. Владимир Овчининский. — М.: Молодая гвардия, 1986. — 296 стр. — (Библиотека советской фантастики). — 85 коп., 100 000 экз. — подписано к печати 09.10.86 г.
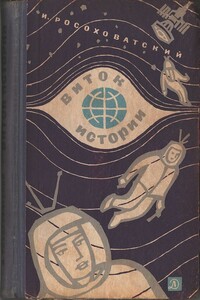
Дорогие ребята!Отзывы о книгах издательства «Детская литература» присылайте по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги. Напишите, пожалуйста, понравилась ли вам эта книга, с какими научно-фантастическими книгами вы уже знакомы, и о чем бы вам хотелось прочитать в новых книгах.
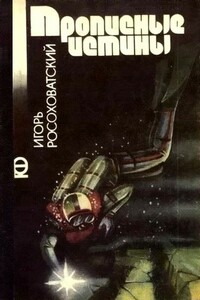
Загадки природы и связанные с ними тайны человеческого бытия, вера в могущество разума и опасности, подстерегающие людей в познании мира, — вот главные темы рассказов Игоря Росоховатского, вошедших в этот сборник …Научно-исследовательское судно входит в бухту Ученые стремятся разгадать тайну гибели аквалангистов, проводивших здесь исследования. В подводные глубины опускается батискаф… О том, как была раскрыта тайна бухты, рассказывается в повести «В подводных пещерах». Рецензент: Александр Тесленко.