К вопросу о мировоззрении В. С. Соловьева - [4]
«Что хотел сказать князь Е. Н. Трубецкой в вышеприведенных словах?» То ли, что Соловьев был глубоко верующим человеком, или что он «во всех своих выводах руководился только своими религиозными верованиями, что эти верования составляли для его мысли непоколебимые предпосылки, которых он не желал или даже не мог критически проверять и обосновывать, и что потому для него умозрение и тонкое диалектическое построение заключений было лишь внешнею формою, в которую облекалось содержание, заранее усвоенное как абсолютный догмат?» (стр. 415–416).
Вместо того, чтобы размышлять о том, как я должен ответить на эти вопросы, Л. М. Лопатину следовало бы просто заглянуть в те страницы моей книги, где этот ответ дается. Там он увидел бы, что Соловьев, следуя в этом отношении славянофилам и Шеллингу, заявил в самом начале своего литературного поприща, что «философия в смысле отвлеченного, исключительно теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего» (т. I, стр. 62). Он увидел бы, что в связи с этим разочарованием в отвлеченной, т. е. чисто рационалистической, одним разумом построяемой философии Соловьев остановился на мысли об универсальном органическом синтезе науки, философии и религии (т. I, 58). Он мог бы ознакомиться с планом этого синтеза из особого параграфа, специально посвященного этой теме (т. I, 110 и 113), и убедиться в моем, в общем положительном отношении к этому плану (т. II, 291–293). Наконец, он мог бы заметить, что, как это показывается во всей моей книге, объединяющим началом этого органического синтеза в учении Соловьева служит идея Богочеловечества, причем, с точки зрения Соловьева, это религиозное начало должно быть не одним лишь уголком в нашем мировоззрении, а определить его всецело, стать в нем всем во всем.
Если бы Л. М. Лопатин принял все это во внимание, вопросы, которые он мне ставит, отпали бы сами собою. Раз я считаю мысль об органическом синтезе необходимою для Соловьева, я должен признавать существенными элементами его мировоззрения и религию, и философию. Как же при этих условиях я могу допустить, «что Соловьев во всех своих выводах руководствовался только своими религиозными верованиями»: ведь это именно и значило бы отделять в Соловьеве теолога от философа, т. е. делать то самое, что я считаю недопустимым безвкусием. Что касается попыток «оправдать веру отцов», то Л. М. мог бы заметить, что в этом я не только сочувствую Соловьеву, но стараюсь его дополнить[7].
Моя мысль в том, что религия и философия в учении Соловьева – нераздельное и неслиянное целое. Л. М. Лопатин едва ли станет отрицать, что так смотрел на свое учение и сам Соловьев; но если так, то как же он не видит, что его утверждение, будто я «больше ценю в Соловьеве теолога, чем философа» (стр. 418), в корне противоречит моей мысли? Как я могу ценить в нем больше философа или теолога, когда в моих глазах и философ и теолог одно и то же – неразрывное органическое целое; пусть укажет мне Л. М. Лопатин, что представляет собою философское учение Соловьева отдельно от органического синтеза с религией; только тогда я пойму, как можно в нем отделять религиозного мыслителя от философа; пока же я остаюсь при убеждении, что это – довольно опасная затея, которая, к счастью, до сих пор никому не приходила в голову.
Тем же самым недосмотром объясняются и возражения Л. М. Лопатина против моей характеристики трех периодов творчества Соловьева. Л. М. Лопатин не заметил того, что характеристику первого периода как подготовительного я заимствовал у самого Соловьева, который писал о тогдашних своих трудах: «все это только начальные, подготовительные занятия, настоящее дело еще впереди. Без этого дела, без этой великой задачи мне незачем было бы жить» (т. I, стр. 93). Л. М. Лопатин тем не менее замечает по поводу выражения «подготовительный период» – «читатель недоумевает: подготовительный к чему». «Читатель» Л. М. Лопатина недоумевает только потому, что он не заглянул на стр. 93 моего первого тома, где дается определенный ответ на его вопрос.
И после того, в течение всей его жизни философские труды были для Соловьева не более, как «подготовительными занятиями»; та «великая задача, ради которой он жил от начала и до конца его деятельности, для него заключалась не в созерцании, а в осуществлении царствия Божия». Смею уверить Л. М. Лопатина, что эту глубочайшую мысль Соловьева я не только не причисляю к «утопическим фантазиям», а напротив, принимаю с благоговением, почему и разделяю его мысль, что первый период его творчества был лишь «подготовительным». Следующий, второй период творчества Соловьева я называю «утопическим» вовсе не за попытку выяснить способ действительного осуществления этой идеи на земле, а за то, что философ мечтал осуществить ее в неадекватной ей теократической форме церковно-государственной организации[8]. Наконец, третий период я называю «окончательным», потому что в этот период утопический элемент отпадает, а основная мысль царствия Божия (или, что тоже – всемирного Богочеловечества) как действительного

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
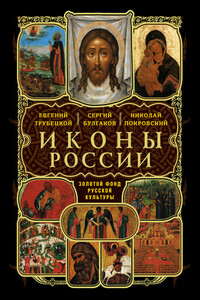
В этой книге впервые под одной обложкой собраны классические работы об иконописи и иконах величайших русских мыслителей и исследователей христианской культуры и древнерусского искусства: Евгения Трубецкого, Сергия Булгакова, Николая Покровского и других. Собранные вместе, эти яркие сочинения дают целостное, одновременно художественное, историческое и религиозное истолкование древней русской иконы. Вы узнаете, для чего нужны иконы, как они создавались и как понимать их символический язык, какое место занимала икона в жизни русского человека в прошлые столетия, какие народные поверья и обычаи связаны с иконами, откуда берется чудодейственная сила святых чудотворных икон.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
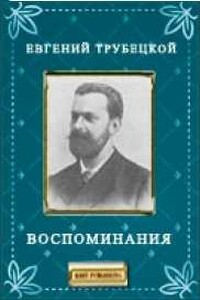
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад – в форме роковой необходимости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек, этот носитель надежды всей твари, свидетель иного высшего замысла? Вместо того, чтобы бороться против этой „державы смерти“, он изрек ей свое „аминь“. И вот, ад царствует в мире с одобрения и согласия человека, – единственного существа, призванного против него бороться: он вооружен всеми средствами человеческой техники. Народы живьем глотают друг друга: народ, вооруженный для всеобщего истребления, – вот тот идеал, который периодически торжествует в истории.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.
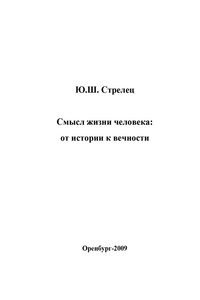
Монография посвящена исследованию главного вопроса философской антропологии – о смысле человеческой жизни, ответ на который важен не только в теоретическом, но и в практическом отношении: как «витаминный комплекс», необходимый для полноценного существования. В работе дан исторический обзор смысложизненных концепций, охватывающий период с древневосточной и античной мысли до современной. Смысл жизни исследуется в свете философии абсурда, в аспекте цели и ценности жизни, ее индивидуального и универсального содержания.
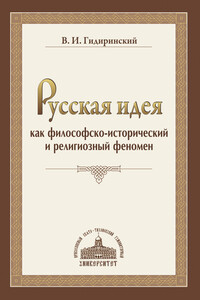
Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.
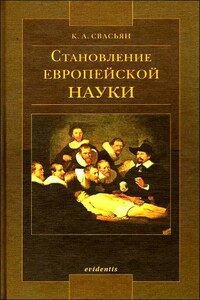
Первая часть книги "Становление европейской науки" посвящена истории общеевропейской культуры, причем в моментах, казалось бы, наиболее отдаленных от непосредственного феномена самой науки. По мнению автора, "все злоключения науки начались с того, что ее отделили от искусства, вытравляя из нее все личностное…". Вторая часть исследования посвящена собственно науке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.