К вопросу о мировоззрении В. С. Соловьева - [2]
При более внимательном чтении моей книги Л. М. Лопатин нашел бы в ней понимание откровения диаметрально противоположное тому, которое он мне приписывает. Так, у меня говорится буквально, что, «раз содержание божественной жизни в каком-либо отношении мне открыто, – от моего разума требуется свободное соучастие в процессе откровения: я должен стремиться сознать и усвоить то, что мне открыто: иначе откровение было бы бессмысленно, бесцельно. Но откровение именно тем и отличается от познания, что познание есть одностороннее самоопределение познающего, тогда как откровение есть акт двусторонний: оно предполагает деятельное взаимоотношение Абсолютного, которое открывается, и конечного, ограниченного существа, которому оно открывается» (т. I, 314).
Ясно, что это категорическое заявление диаметрально противоположно тертуллиановскому пониманию откровения. Между тем, приписывая мне это последнее, Л. М. Лопатин видит именно в этом основное различие между мною и Соловьевым. По его словам, моя близость к старым славянофилам и несходство с Соловьевым выражаются в особенности в следующем: «Он (кн. Трубецкой) гораздо менее полагается на умозрение и меньшего ждет от него. В наиболее основных вопросах знания, где Соловьев искал общеобязательных и внутренне обоснованных решений разума, князь Трубецкой отправляется от веры и все сводит к ней[3]. В этом отношении между князем Трубецким и Соловьевым не только нет конгениальности, а скорее наблюдается заметная противоположность».
В чем, однако, заключается противоположность? В том, что я, по собственному признанию Л. М. Лопатина, последовательнее Соловьева (419–420) провожу его принцип недоказуемости христианского откровения? Но я решительно отказываюсь понять, каким образом последовательное отстаивание начал Соловьем может быть истолковано как «отсутствие конгениальности» или принципиальная противоположность с ним! Или Л. М. Лопатин думает, что религиозный, по существу, принцип недоказуемости откровения представляет в учении Соловьева что-либо случайное, несущественное? Но в таком абсолютном непонимании Соловьева, конечно, никто не решится заподозрить Л. М. Лопатина. Разница между нами, конечно, есть, но совсем не там, где ищет ее Л. М. Лопатин! Он мог бы заметить, что если я местами указываю на незаконность отдельных чересчур рационалистических толкований откровения у Соловьева, то в других местах я вопреки ему отстаиваю права самостоятельного человеческого разума против незаконных вторжений мистики. Впрочем, принципиальной противоположности и здесь нет: вся моя задача – в более последовательном проведении, чем у самого Соловьева, его же собственного принципа – нераздельного и неслиянного единства божеского и человеческого, а в данном случае – мистического и рационального элемента в богопознании.
II
Всего больше не везет Л. М. Лопатину в той части его статьи, где он противополагает мое учение об Абсолютном соловьевскому. Тут он как будто делает точные ссылки на определенные страницы моей книги. Но, к величайшему моему изумлению, именно на этих страницах оказываются мысли, диаметрально противоположные тем, которые он оттуда вычитывает.
Так, напр., на стр. 109 (т. I) я говорю, что Соловьев «ясно видел тот предел человеческой мысли, где кончаются доказательства». Не замечая, что здесь идет речь о Соловьеве, Л. М. Лопатин (стр. 420) видит в этом указании на «предел» мою собственную мысль, составляющую черту отличия между мною и Соловьевым. Развивая дальше это противоположение, Л. М. приписывает мне мысль, будто «реальность абсолютного есть только одно из возможных предположений рядом с другим, ее отрицающим» (ibid). На стр. 109, которая при этом указывается, не только не встречается ничего подобного, но воспроизводится прямо противоположная мысль Соловьева, к которой я тут же присоединяюсь всецело: здесь говорится, что аргументация Соловьева «ставит нас перед неотразимой дилеммой: или мы должны отнести всякое познание и самую мысль к области иллюзий, или же мы должны признать абсолютно Сущее как разум, или логос мироздания. Им мы живем и движемся и есмы». Далее, ссылаясь (стр. 109) на мои слова, что реальное Безусловное есть гипотеза, Л. М. приписывает мне мысль, будто это «насквозь гипотетическое» понятие о реальном безусловном усвояется «лишь произволом нашей веры». Но на стр. 108, на которую при этом ссылается критик, не говорится об этой «гипотезе» ни слова; зато двумя страницами дальше о ней говорится опять-таки диаметрально противоположно тому, что Л. М. мне приписывает: это – не гипотеза, усвояемая произволом веры, а одна из «необходимых, неустранимых гипотез всякой мысли» (курсив в книге); «первая и основная гипотеза всякой мысли, без коей обращаются в ничто все се суждения и высказывания, есть реальное Безусловное» (см. мой т. I, стр. 107). При этом Л. М. опять-таки не заметил, что здесь я высказываю не какое-либо

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
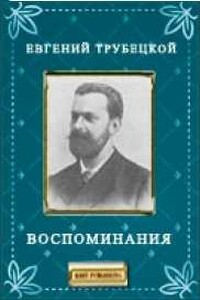
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
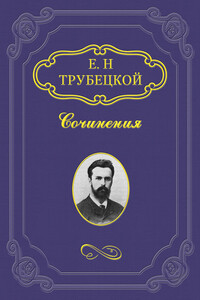
«В том колоссальном успехе, которым пользуется к России ибсеновский Бранд, поражает в особенности одна черта: восторженное поклонение относится в данном случае не столько к Ибсену, сколько к самому Бранду, успевшему за короткий срок стать героем нашего времени, идолом русской интеллигенции…».
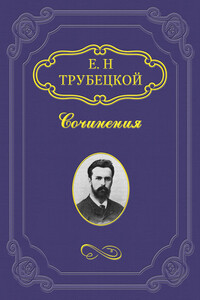
«Зимою 1886/87 года в среду у Лопатиных произошла моя первая встреча с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. B свое время я описал эту встречу и весь происходивший между нами разговор в письме к брату Сергею, тогда жившему в Калуге. Извлечение из письма, помнится, было мною дано C. M. Лукьянову, который, вероятно, поместил его в своем собрании биографических материалов о Соловьеве. Поэтому воспроизводить эти разговоры, которые в момент написания письма были гораздо свежее у меня в памяти, мне теперь незачем. Скажу лишь о том общем впечатлении, которое произвело на меня это знакомство…».
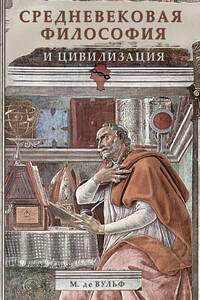
Книга выдающегося ученого Мориса де Вульфа представляет собой обзор главных философских направлений и мыслителей жизненно важного периода Западной цивилизации. Автор предлагает доступный взгляд на средневековую историю, охватывая схоластическую, церковную, классическую и светскую мысль XII—XI11 веков. От Ансельма и Абеляра до Фомы Аквинского и Вильгельма Оккама Вульф ведет хронику влияния великих философов этой эпохи, как на их современников, так и на последующие поколения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Развивая тему эссе «Разоблачённая демократия», Боб Блэк уточняет свой взгляд на проблему с позиции анархиста. Демократическое устройство общества по привычке считается идеалом свободомыслия и свобододействия, однако взгляните вокруг: наше общество называется демократическим. На какой стороне пропасти вы находитесь? Не упадите после прочтения!
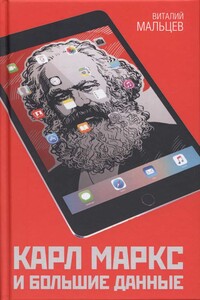
К концу второго десятилетия XXI века мир меняется как никогда стремительно: ещё вчера человечество восхищалось открывающимися перед ним возможностями цифровой эпохи но уже сегодня государства принимают законы о «суверенных интернетах», социальные сети становятся площадками «новой цензуры», а смартфоны превращаются в инструменты глобальной слежки. Как же так вышло, как к этому относиться и что нас ждёт впереди? Поискам ответов именно на эти предельно актуальные вопросы посвящена данная книга. Беря за основу диалектические методы классического марксизма и отталкиваясь от обстоятельств сегодняшнего дня, Виталий Мальцев выстраивает логическую картину будущего, последовательно добавляя в её видение всё новые факты и нюансы, а также представляет широкий спектр современных исследований и представлений о возможных вариантах развития событий с различных политических позиций.
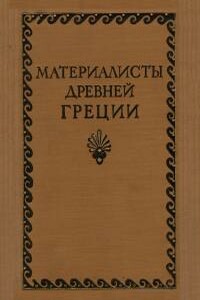
Перед вами собрание текстов знаменитых древнегреческих философов-материалистов: Гераклита, Демокрита и Эпикура.