К теории театра - [78]
Язык поэтического театра и на практике и в теоретическом пределе синтетичен. Возьмем пример, технически похожий на смоделированный выше. На этот раз исторический: в упомянутом «Лесе» Мейерхольда Е.А.Тяпкина — Гурмыжская, словами по — своему варьируя мотив «все высокое и прекрасное», недвусмысленно вертела при этом нижним бюстом. Теоретически не имеет значения, искренно говорила Гурмыжская о своем благородстве или немилосердно фальшивила, выражала голосом то же, что телом, или нет. Во втором случае на двух языках, интонации и пластики — в отличие от нашего искусственного примера, который в этом отношении куда более изыскан — демонстративно выговаривается, кажется, одно (если позабыть, что и обе половины тела тоже между собою контрастно монтируются). И все — таки тут как раз синкретизма нет, а есть, на онтологическом уровне, именно синтезированный язык. Причем монтаж заведомо более радикален, чем постулировал сам Мейерхольд в начале века: языковые планы не меняются, а буквально одновременны, естественный симбиоз пластики и интонации в самой интимной для театра сфере, в актере, художник разодрал, чтоб затем «отдельные» движения тела и словесной речи произвольно спаять. Вопрос, стало быть, не в том, однородны по значению интонация и пластика или нет, а в самой установке: два слоя языка не просто одновременны, но параллельны, соединить их вынужден зритель, и здесь неизбежно именно то, что Эйзенштейн сформулировал как закон ассоциативного монтажа: один плюс один больше, чем два; налицо своего рода «языковая композиция», разумеется, более чем аналогичная строению формы.
Другое проявление раздвоения (или разбегания?) театрального языка, может быть, еще заметней. Речь, снова не на уровне индивидуальных пристрастий режиссеров и актеров, о неприязни прозаического и тяготении поэтического спектакля к тропам. В прозе значение естественно «держится своего знака», в поэзии он с этого знака если не сорвано, так сдвинуто, что и дает метафору, метонимию и т. п. Работа с разными планами языка здесь вещественна: знак насильно соединен с чужим — противоположным ли, сходным ли, смежным, но всегда не своим — значением. Само собой, рассуждая об этом предмете, приходится быть особенно внимательным, в первую очередь, к виду театра: значение и знак, которые в драматическом театре выглядят как сдвинутые одно с другого, в театре пантомимы, допустим, никакого тропа собой могут не представлять: там эта связь натуральна, о чем со зрителями условились с самых первых движений спектакля.
Но и дифференцированный и разнообразно разными своими свойствами ориентированный, театральный язык все же остается именно и только языком. «Есть слова, — писал М.М. Бахтин, — которые специально означают эмоции, оценки: «радость», «скорбь», «прекрасный», «веселый», «грустный» и т. п. Но и эти значения так же нейтральны, как и все прочие. Экспрессивную окраску они получают только в высказывании, и эта окраска независима от их значения, отдельно, отвлеченно взятого; например: «Всякая радость мне сейчас только горька» — здесь слово «радость» экспрессивно интонируется, так сказать, вопреки своему значению»[141]. Мыслитель согласен с тем, что у знака (в словесном материале, с которым он работал, это, понятно, слово), есть некая типическая для этого слова экспрессия, но он настаивает: в сущности, и это аберрация; «только контакт языкового значения с конкретной реальностью, только контакт языка с действительностью»[142] порождает искру экспрессии, то есть в нашем случае делает знак средством выразительности.
В концепции Бахтина ключом, который отмыкает всю эту проблематику, становится жанр. Но жанр, согласно Бахтину же (согласились с этим и мы), есть категория формы. Должна быть своего рода формула перехода от одной ипостаси текста к другой.
И здесь вперед выступает главная содержательная характеристика художественных языков — стиль. По-видимому, стиль — не просто языковое явление. Стиль собирает для целей художника ту или другую совокупность языковых средств, он в конечном счете и есть определенная, для данного случая или данного ряда случаев совокупность, комбинация средств языка[143]. Тут — другое понимание «конкретности» театрального языка — не связанное с видом театра, но связанное с некими специфическими сторонами содержания спектакля. Тут, может быть, важней не столько «стиль Толстого», сколько, допустим, «психологический стиль». Стиль «Детства», «Отрочества» и «Юности» — стиль раннего Толстого, но если взять шире — это психологический стиль и есть. Нас сейчас интересует не мера обобщения, доступная понятию «стиль» (эта мера в обоих упомянутых случаях разная, хотя одинаково законная). Мы предпочли второе, более широкое толкование только в связи с практической надобностью. Впрочем, и Толстой здесь помянут не случайно. Если соглашаться с литературоведами, которые доказывают, что Толстой эпохи трилогии — психологический писатель, то в стиле этих трех повестей найти подтверждения несложно. Задача, однако, иная. Доказать, что Толстой той поры — психолог по преимуществу, можно только или главным образом анализируя его тогдашний стиль. Те средства, которые он выбирал, и тот способ, каким он эти средства соединял между собою, строя форму. Но для наших целей достаточно вспомнить и здесь нечто вполне хрестоматийное — фразу Льва Толстого. Ту самую, которая порой не умещается на одной странице, которая изобилует всеми его излюбленными «что», «который», «ежели», «потому» и пр., и пр. Когда мы осваиваем эту фразу и понимаем, что в ней «причинность» выпирает наружу, что придаточные предложения гроздьями, без конца и без меры, облепили главное настолько, что не дают ему закончиться, когда мы вчитываемся в «отдельный» смысл этих соединений и размежеваний, мы понимаем, что такая фраза — не кокетство, а единственная возможность написать все эти получувства и полумысли, эти бесконечные оттенки, цепляющиеся друг за друга, эту вибрацию, эту, как сказал бы Чернышевский, диалектику души. Ведь пишется именно душа, фиксируются ее движения, а они не вещественны, они едва уловимы, они тянутся и рвутся, и вновь возникают, кажется, без всякой связи, а на самом деле это отсвет чего-то бывшего, но полузабытого и так далее и так далее. Тут прямо психологическое письмо: изображается движение внутреннего мира. Это движение, такое движение, движение такого мира может быть передано, кажется, только таким языком.

Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.

На знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа упокоились священники и царедворцы, бывшие министры и красавицы-балерины, великие князья и террористы, художники и белые генералы, прославленные герои войн и агенты ГПУ, фрейлины двора и портнихи, звезды кино и режиссеры театра, бывшие закадычные друзья и смертельные враги… Одни из них встретили приход XX века в расцвете своей русской славы, другие тогда еще не родились на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская, Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов, отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов, Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида Серебрякова, Александр Галич, Андрей Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида Шаховская, Рудольф Нуриев… Судьба свела их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века.
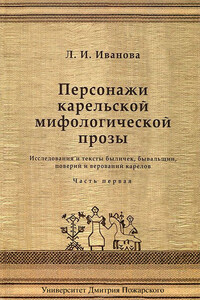
Данная книга является первым комплексным научным исследованием в области карельской мифологии. На основе мифологических рассказов и верований, а так же заговоров, эпических песен, паремий и других фольклорных жанров, комплексно представлена картина архаичного мировосприятия карелов. Рассматриваются образы Кегри, Сюндю и Крещенской бабы, персонажей, связанных с календарной обрядностью. Анализируется мифологическая проза о духах-хозяевах двух природных стихий – леса и воды и некоторые обряды, связанные с ними.

Эта книга – воспоминания знаменитого французского дизайнера Эльзы Скиапарелли. Имя ее прозвучало на весь мир, ознаменовав целую эпоху в моде. Полная приключений жизнь Скиап, как она себя называла, вплетается в историю высокой моды, в ее творчестве соединились классицизм, эксцентричность и остроумие. Каждая ее коллекция производила сенсацию, для нее не существовало ничего невозможного. Она первая создала бутик и заложила основы того, что в будущем будет именоваться prèt-á-porter. Эта книга – такое же творение Эльзы, как и ее модели, – отмечена знаком «Скиап», как все, что она делала.

Наркотики. «Искусственный рай»? Так говорил о наркотиках Де Куинси, так считали Бодлер, Верлен, Эдгар По… Идеальное средство «расширения сознания»? На этом стояли Карлос Кастанеда, Тимоти Лири, культура битников и хиппи… Кайф «продвинутых» людей? Так полагали рок-музыканты – от Сида Вишеса до Курта Кобейна… Практически все они умерли именно от наркотиков – или «под наркотиками».Перед вами – книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях – от самых «легких» до самых «тяжелых».

Выдающийся деятель советского театра Б. А. Покровский рассказывает на страницах книги об особенностях профессии режиссера в оперном театре, об известных мастерах оперной сцены. Автор делится раздумьями о развитии искусства музыкального театра, о принципах новаторства на оперной сцене, о самой природе творчества в оперном театре.