Избранные труды по языкознанию - [4]
Гумбольдт вводит новое, на наш взгляд, весьма важное понятие «языковое сознание народа» (nationellerSprachsinn) (VII, 14; с. 47). В нем находит обоснование тезис об органической целостности языка; в нем же можно усмотреть имманентный принцип «важнейших различий» языков.
Включение в орбиту лингвистических исследований понятия «языкового сознания народа» создает возможность оградить Гумбольдта от обвинений в том пункте, в котором его из-за сложившейся традиции труднее всего защитить, а именно — в вопросе квалификации „духа народа" и его связи с языком [9]. Поскольку в выражении „языковое сознание" определяющим является адъек- тив „языковое", то интерпретации, исходящие из этнопсихологии, следует подвергнуть определенной коррекции, тем самым защитив автономность сравнительного языковедения как от этнографизма, так и от психологизма.
В вышеприведенной цитате (стр. 9—10) понятие „народ" определяется с учетом фактора языка и в соотношении с „человечеством".
В данном контексте третья величина — „человечество" — понимается не в собирательном смысле, то есть это не объемное понятие, обозначающее совокупность всех людей (для чего В. фон Гумбольдт чаще использует „Menschengeschlecht"), а скорее понятие, отражающее подлинную природу и высокое назначение человека как небиологического существа: оно основано на принципе культурно-этического единства людей, которое именно в таком значении особенно утвердилось в Германии после Гердера.
Обусловленное языком естественное деление человечества на народы, хотя и имеет силу естественной необходимости, но проводится у Гумбольдта не по биологическим, расовым и тому подобным признакам, а по более высокому принципу, создающему основные и необходимые — «охарактеризованные языком» — условия человеческого бытия, возвышающие человека до решения задач своего историко-культурного назначения [10].
III.
Как уже было сказано, Гумбольдт, еще в 1801 г., в своих фрагментах монографии о басках выдвинул тезис о том, что разные языки — это не различные звуковые обозначения одного и того же предмета, а «различные видения» его. Эта идея, возникшая в результате эмпирических наблюдений над языком (баскским), по своему строению отличным от европейских языков, находит свое теоретическое обоснование в известном докладе, прочитанном им в 1820 г. в Берлинской Академии наук („О сравнительном изучении языков…").
Тезис об «языковом мировидении» [11], по сей день являющийся источником многих недоразумений, с чисто эмпирической точки зрения содержит довольно простую мысль: различие языков не сводится к одному лишь звуковому фактору. Нужно было гениальное прозрение Гумбольдта, чтобы усмотреть в этом функцию и назначение языков как различных путей содействия осуществлению общечеловеческой задачи — «превращения мира в мысли» (Verwan- dlungderWeltinGedanken).
С усмотрением в постижении мира примарной функции языка как одной из фундаментальных форм познавательной активности человека с необходимостью связано требование переосмысления тех общепринятых дефиниций („знаковая система" и др.), которые указывают преимущественно на инструментальный характер языка, то есть на «употребление» его лишь как средства для обозначения готовой мысли с целью сообщения. Еще в 1806 г., считая такое определение языка и понимание слова как знака (Zeichen) «до некоторой степени правильным», Гумбольдт предостерегал: становясь «господствующим», такое понимание может превратиться в «крайне ложное представление» о языке, «убивающее» в нем все «живое» и «духовное».
Развивая и уточняя эту мысль, Гумбольдт указывает на те границы, в пределах которых лишь следует говорить о языке как о знаковой системе: «Слово, действительно, есть знак до той степени, до какой оно используется вместо вещи или понятия. Однако по способу построения и по действию это особая и самостоятельная сущность, индивидуальность; сумма всех слов, язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» (III, 168; с. 304>.
30 лет спустя в своей последней работе Гумбольдт опять в контексте критики языка как внешнего средства этот промежуточный мир называет «подлинной реальностью» (wahreWelt) (VII, 177; с. 171). Здесь слово «между» следует понимать не в его пространственном значении; оно указывает на исторически закрепленную в языке систему значений, посредством которой (а не непосредственно) и происходит «преобразование» внеязыковой действительности в объекты сознания. Там, где, по наивной логике, человеку дан непосредственный доступ к предметному миру, должно быть обнаружено опосредствующее действие языка.
Постулирование языковых значений между звуковой формой и предметом исключает возможность толкования языка как номенклатуры. Против такого понимания языка как номенклатуры после Гумбольдта, как известно, выступил и Фердинанд де Соссюр, хотя ему (да и многим другим) не удалось найти веского доказательства для его полного преодоления. Причина этого, по всей вероятности, кроется в недостаточном осмыслении унаследованного от Гумбольдта понятия „языкового мировидения". Если его связать с идеей «промежуточной реальности», то это можно было бы проще передать так: язык есть не ряд готовых этикеток к заранее данным предметам, не их простое озвончение, а промежуточная реальность, сообщающая не о том, как называются предметы, а, скорее, о том, как они нам даны.

Настоящим сборником немецкого ученого-гуманиста Виль¬гельма фон Гумбольдта мы продолжаем публикацию трудов из классического наследия выдающегося филолога и философа конца XVIII — начала XIX века. Сборник многообразен по тематике: в него включены работы по философии истории, труды по эсте¬тике, антропологии, статьи и фрагменты из монографий по лингвистике.
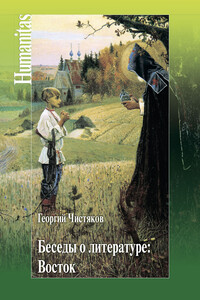
Издание продолжает серию трудов священника Георгия Чистякова (1953–2007), историка, богослова, общественного деятеля. Оно включает в себя циклы радиобесед о европейской литературе XX века и о русской литературе XIX–XX веков, в основе которых лежат выступления на радио «София» в конце 1990-х годов. Подавляющее большинство текстов публикуется впервые. В приложении помещены две тетради записок и избранные стихотворения. Издание адресовано литературоведам-профессионалам, а также всем интересующимся историей культуры. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
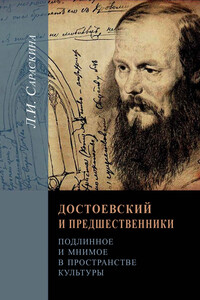
В монографии, приуроченной к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, обсуждается важнейшая эстетическая и художественная проблема адекватного воплощения биографий великих писателей на киноэкране, раскрываются художественные смыслы и творческие стратегии, правда и вымысел экранных образов. Доказывается разница в подходах к экранизациям литературных произведений и к биографическому кинематографу, в основе которого – жизнеописания исторических лиц, то есть реальный, а не вымышленный материал. В работе над кинобиографией проблема режиссерского мастерства видится не только как эстетическая, но и как этическая проблема.
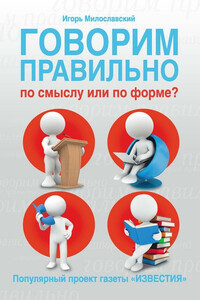
Эта книга – практикум, как говорить правильно на нашем родном языке не только по форме, но и по смыслу! Автор, профессор МГУ Игорь Милославский, затрагивает самые спорные вопросы, приводит наиболее встречающиеся в реальной жизни примеры. Те, где мы чаще всего ошибаемся, даже не понимая этого. Книга сделана на основе проекта газеты «Известия», имевшего огромную популярность.Игорь Григорьевич уже давно бьет тревогу, что мы теряем саму суть нашего языка, а с ним и национальную идентификацию. Запомнить, что нельзя говорить «ложить» и «звОнить» – это не главное.

Пособие знакомит читателя с характерными особенностями английского языка и типичными случаями расхождений с русским языком. В нем суммируются те черты грамматического строя английского языка, которые в силу их специфики представляют трудность для учащихся.В предлагаемом пособии ставится цель ознакомить учащихся, прошедших первоначальный курс английского языка, с некоторыми характерными системными особенностями этого языка и типичными случаями расхождений с русским языком. Поскольку способ выражения мысли проявляет себя прежде всего в строе языка, в его грамматике, то в пособии вскрываются именно особенности английской грамматики, притом те особенности, которые находили меньшее отражение, а главное — не подвергались достаточной отработке в учебной литературе.Пособие не претендует на полноту и систематичность описания специфики английской грамматики, но обращает внимание учащихся на отдельные интересные, с точки зрения автора, моменты, которые и придают английской речи ее неповторимое своеобразие.Кроме того, в пособии рассматриваются такие особенности английского языка, как конверсия, лаконизм английской речи, с одной стороны, и тенденция к известным усложнениям и избыточности — с другой, переходность глаголов и некоторые другие моменты.Каждый раздел пособия содержит теоретические заметки с иллюстративными примерами в переводе автора.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.