Избранные произведения - [46]
Я не стану сравнивать тонкость, мягкость, приятность чувствительного у древних и у наших поэтов с жестокостью, варварством и зверством поэтов собственно романтических. Без сомнения, смерть любимой женщины есть предмет до такой степени патетический, что, на мой взгляд, от постигнутого таким несчастьем поэта, который, воспев его, не заставил бы читателя пролить слезы, безнадежно ожидать, чтобы он взволновал сердце. Но почему любовь должна быть кровосмесительной? Почему женщина должна быть убита? Почему ее возлюбленный — непременно отъявленный злодей, чудовище по всем статьям? Слишком много слов пришлось бы потратить, если пуститься в рассуждения на эту тему: ведь сентиментальное у романтиков всегда ужасно, это самая заметная его черта; однако чем больше тут можно было бы сказать, тем охотнее я воздерживаюсь от этого; пусть послужит вящей славе романтиков то, что, как провозглашают они сами, больше всего удовольствия доставляет им чувствительность демонов, а не людей; пусть мы будем достойны порицания за нашу неприязнь к адским красотам. Но как назвать это низведение почти всей поэзии — подражательницы природе — к одной чувствительности, как будто природе нельзя подражать иначе как в патетической манере; как будто все причастное нашей душе может быть только патетическим; как будто лишь чувствительность — одна или в сочетании с иными причинами — побуждает поэта творить; как будто без оттенка меланхолии нет больше ни гнева, ни радости, нет никакой страсти, нет ни красоты, ни отрады, ни силы, ни достоинства, ни благородства помыслов, нет ничего вымышленного и созданного воображением. Значит, впредь на лирах поэтов останется лишь одна струна? И каждая поэма в отдельности будет однозвучной, и все будут петь в унисон друг с другом? Значит, не будет ни эпопей, ни торжественных песнопений, ни гимнов, ни од, никаких песен, кроме патетических? Я не говорю уже о том, насколько мы, по всей видимости, умножим приносимые поэзией наслаждения, отняв у нее то разнообразие, без которого не только поэзия, но и все в этом мире так скоро приедается. Что же нам сказать о певцах прошедших времен? Значит, Вергилий был поэтом только в четвертой книге «Энеиды» да в эпизоде о Нисе и Эвриале[103]? Значит, и Петрарка не был поэтом там, где не говорил о любви? Значит, не был поэтом и Гомер? Или, вернее, был (ведь так полагали очень многие!), но теперь перестал быть? Или же он остается и останется поэтом, приносит и будет приносить наслаждение и, несмотря на это, ни один современный поэт не должен петь так же, как он? Но как поэтам отказаться от этого и не петь, как Гомер или как Пиндар, короче говоря — как древние, покуда древние доставляют наслаждение, да еще в несказанной степени? Но я не хочу, вознамерившись опровергнуть эти глупости, показаться таким же глупцом, как романтики.
Равным образом, я полагаю, напрасной тратой слов и времени будет напоминание о том, как быстро мы пресыщаемся и утомляемся страшным и вообще всем, что сильнее обычного (а еще больше — чрезмерным, какое бывает у романтиков), так что хотя бы мало-мальски долгое и частое обращение к нему может быть лишь плодом странного неведения нашей души и способно вызвать у разумных людей только нескончаемый смех, или бесконечное изумление, или сожаление, особенно когда такой автор хвастливо провозглашает себя «превосходным психологом»; нет нужды и указывать на потуги романтиков всегда продлевать до бесконечности то напряжение, которое по своей природе почти никогда и ни в чем не бывает длительным, — потуги, ведущие к столь явной неестественности, что не замечать ее может только слепой или романтик; нет нужды спрашивать у новейших поэтов, как это психология не научила их превыше всего ценить и с особым тщанием соблюдать умеренность, и не только в том, о чем я говорил, но и во всем относящемся к поэзии (ведь нам теперь не следует касаться ничего другого), не научила необходимости осмотрительного выбора и наилучшего соединения, не научила множеству несомненных и проверенных на опыте истин, знание которых вытекает из знания человеческой души или, вернее, заключено в этом знании, истин, которые тысячекратно отмечались и повторялись в легковесных древних поэтиках, но, как ни странно, остались неизвестными современнейшей и божественнейшей из наук — «психологии»; нет нужды спрашивать у людей, как могли в наш век родиться такие, кто позабыл изначальную и основную истину, гласящую, что изящные искусства требуют сообразности, иначе говоря, что в них не должно быть ничего неуместного, истину, которая появится перед каждым, кто хоть немного поразмыслит о природе этих искусств, или людей, или мира, и которую нельзя презреть без того, чтобы любое искусство не утратило способности производить на свет что-либо, кроме чудовищ, ибо как огромный нос на маленьком лице или тяжеловесные украшения на легкой постройке, так и всякая несообразность порождает уродство или, вернее, уродство есть не что иное, как несообразность. Все это настолько бьет в глаза, что всякий, кто возражал и возражает романтикам, говорил и говорит об этом, и я не могу сказать тут ничего нового, как не могу сказать ничего нового о том удивительном и странном противоречии, в которое романтики впадают, отрицая сообразность верований и нравов древних современной поэзии и с величайшей любовью приемля, отыскивая и изображая верования и нравы Севера, Востока и Америки. Быть может, в них много общего с нашими верованиями и нравами? Или они так уж хорошо сообразуются с нынешними познаниями европейцев? А может быть, в огромном большинстве своем — куда хуже, нежели нравы и верования греков и римлян? Если же они ищут далекого нам ради того, что есть в нем достойного удивления и почитания, то почему ими отвергается все греческое и латинское? Разве только варварское может быть достойно удивления и почитания? Более того, как можно чтить что-либо принадлежащее людям презираемым? А кого презирают больше, чем варваров? Особенно если варварство их таково, каково оно, например, у магометанских народов? Почему, дабы показать величественные зрелища и представить благородные деяния, нужно изображать какого-нибудь пашу, а не трибуна, какого-нибудь жителя Пекина, а не спартанца, рожу, а не лицо? Но оставим это! Значит, все зло заключено во времени, коль скоро отдаленность в пространстве при всем различии нравов и мнений, которое она влечет за собой, не только не вредит, но и приносит пользу, а отдаленность во времени нетерпима и пагубна? Как же получается, что мы, читая поэтов, и не только поэтов, но и историков и им подобных, с легкостью становимся как бы участниками событий и дел, совершавшихся у греков и римлян двадцать и более веков назад, и с трудом входим в дела недавние или современные, случившиеся, предположим, в Тибете или в Нубии, у ирокезов, или у афганцев, или даже у более прославленных и знакомых нам народов? Ведь тут в доказательство достаточно будет, оставив в стороне множество возможных доводов, сослаться на всеобщий опыт. Что мне говорить о варварских сказаниях, которые наши преобразователи вводят вместо сказаний греков? Говорить тут нечего, потому что это предмет из числа самых распространенных, его касается всякий, кто бранит романтиков; мне остается только порадоваться, во-первых, за наш век, который, без сомнения, к выгоде своей променял греков на варваров, и, во-вторых, за врагов всяческого педантизма, которые не находят себе места от радости, видя, что отныне поэтов нельзя будет понять без ссылок и примечаний. Потому что греческие сказания знает на память любой европеец; хорошо это или плохо, гоже или не гоже нашему веку, но вкусу или не по вкусу романтикам, но дело обстоит так, а не иначе; и когда европейский поэт обращается к этим сказаниям и к языку этих сказаний, даже когда злоупотребляет им, все равно, если злоупотребленье это не чрезмерно, его поймут все те, среди кого и для кого он поет. Но многие ли знают сказания Севера, Востока и Америки и кому до них дело? Значит, необходимо либо чтобы наши поэты, живя в Европе, пели не для Европы, а для Азии, Африки или Америки, и если даже мы допустим, что их поймут там, несмотря на то что петь они будут на европейских языках, им нужен будет очень зычный голос, чтобы быть услышанными; либо чтобы они создали для себя другую Европу, сведущую в этих сказаниях, между тем как наша Европа насмехается над ними и ничуть ими не интересуется; либо чтобы их сочинения влекли за собой бесчисленные примечания и комментарии, что, без сомнения, убьет всякий педантизм, — ведь вы отлично знаете, что комментарий, вымощенный, например, кусками из «Эдды Старшей» и «Младшей», или из Алькорана, или из Фирдоуси, или из «Пураны», «Рамаяны», «Мегадуты»

Великого Джакомо Леопарди (1798–1837) Шопенгауэр назвал «поэтом мировой скорби». Жизнь Леопарди оборвалась рано, и поэтическое наследие его невелико: один сборник стихов Canti (Песни). И притом в итальянской литературе он по праву стоит рядом с Данте и Петраркой.В России наиболее известны переводы А. Ахматовой и А. Наймана.В книгу переводов Т. Стамовой вошли избранные стихотворения поэта и эссе, посвященное литературным мистификациям Леопарди. Перевод: Татьяна Стамова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
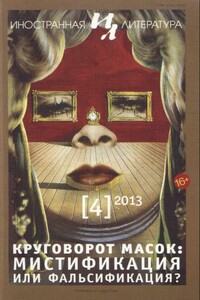
Высочайшая образованность позволила классику итальянской литературы Джакомо Леопарди (1798–1837) вводить в заблуждение не только обыкновенную публику, но и ученых. Несколько его стихотворений, выданных за перевод с древнегреческого, стали образцом высокой литературной мистификации. Подробнее об этом пишет переводчица Татьяна Стамова во вступительной заметке «Греческие оды и не только».
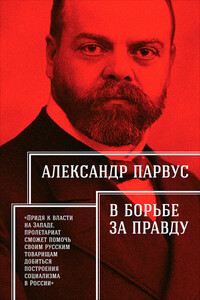
Работа «В борьбе за правду» написана и опубликована в Берлине в 1918 году, как ответ на предъявленные Парвусу обвинения в политических провокациях ради личного обогащения, на запрет возвращения в Россию и на публичную отповедь Ленина, что «революцию нельзя делать грязными руками».

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Опубликовано в журнале «Арт-город» (СПб.), №№ 21, 22, в интернете по адресу: http://scepsis.ru/library/id_117.html; с незначительными сокращениями под названием «Тащить и не пущать. Кремль наконец выработал молодежную политику» в журнале «Свободная мысль-XXI», 2001, № 11; последняя глава под названием «Погром молодых леваков» опубликована в газете «Континент», 2002, № 6; глава «Кремлевский “Гербалайф”» под названием «Толпа идущих… вместе. Эксперимент по созданию армии роботов» перепечатана в газете «Независимое обозрение», 2002, № 24, глава «Бюрократы» под названием «“Чего изволите…” Молодые карьеристы не ведают ни стыда ни совести» перепечатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 29.01.2002.

Полный авторский текст. С редакционными сокращениями опубликовано в интернете, в «Русском журнале»: http://www.russ.ru/pole/Pusechki-i-leven-kie-lyubov-zla.
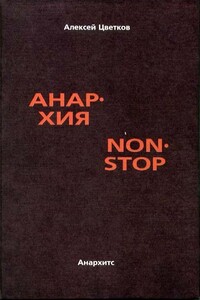
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.