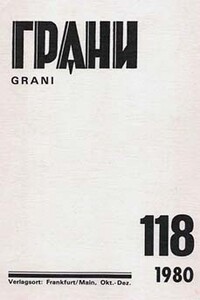Избранное - [7]
Таким клещом был маленький Гренуй. Он жил, замкнувшись в свою оболочку, и ждал лучших времен. Миру он не отдавал ничего, кроме своих нечистот: ни улыбки, ни крика, ни блеска глаз, ни даже запаха. Любая другая женщина оттолкнула бы этого ребенка. Но не мадам Гайар. У нее ведь не было обоняния, она не знала, что он не пахнет, и не ждала от него никакого душевного движения, потому что ее собственная душа была запечатана.
Зато другие дети тотчас почувствовали, что с Гренуем что-то не так. С первого дня новенький внушал им неосознанный ужас. Они обходили его колыбель и теснее прижимались друг к другу на своих лежанках, словно в комнате становилось холоднее. Те, что помладше, иногда плакали по ночам; им казалось, что в спальне дует. Другим снилось, что он как бы отбирает у них дыхание. Однажды старшие дети сговорились его задушить. Они навалили ему на лицо лохмотья, и одеяло, и солому. Когда мадам Гайар на следующее утро раскопала его из-под кучи тряпья, он был весь измочален, истерзан, весь в синяках, но не мертв. Они попытались проделать это еще пару раз — напрасно. Просто так, собственными руками сдавить ему глотку или зажать ему нос или рот, что было бы надежным способом, — они боялись. Они не хотели к нему прикасаться. Он вызывал у них чувство омерзения, как огромный паук, которого не хочется, противно давить.
Когда он подрос, они отказались от покушений на его жизнь. Они, кажется, поняли, что уничтожить его невозможно. Вместо этого они стали чураться его, убегать прочь, во всяком случае избегать соприкосновения. Они его не ненавидели. Они его и не ревновали, и не завидовали ему. Для подобных чувств в заведении мадам Гайар не было ни малейшего повода. Им просто мешало его присутствие. Они не слышал его запаха. Они его боялись.
При этом, с объективной точки зрения, в нем не было ничего устрашающего. Подростком он был не слишком высок, не слишком силен, пусть уродлив, но не столь исключительно уродлив, чтобы пугаться при виде его. Он был не агрессивен, не хитер, не коварен, он никого не провоцировал. Он предпочитал держаться в стороне. Да и интеллект его, казалось, менее всего мог вызвать ужас. Он встал на обе ноги только в три года, первое слово произнес — в четыре, это было слово «рыбы» — оно вырвалось из него в момент внезапного возбуждения как эхо, когда на улицу Шаронн явился издалека какой-то торговец рыбой и стал громко расхваливать свой товар. Следующие слова, которые он выпустил из себя наружу, были: «пеларгония», «козий хлев», «савойская капуста» и «Жак Страхолюд» (прозвище помощника садовника из ближайшего монастыря Жен Мироносиц, мадам Гайар иногда нанимала его для самой тяжелой работы, и он отличался тем, что не мылся ни разу в жизни). Что касается глаголов, прилагательных и частиц, то их у Гренуя было и того меньше. Кроме «да» и «нет» — их, впрочем, он сказал впервые очень поздно — он произносил только основные слова, по сути, только имена собственные и названия конкретных вещей, растений, животных и людей, да и то лишь тогда, когда эти вещи, растения, животные или люди ненароком вторгались в его обоняние.
Сидя под мартовским солнцем на поленнице буковых дров, потрескивавших от тепла, он впервые произнес слово «дрова». До этого он уже сотни раз видел дрова, сотни раз слышал это слово. Он и понимал его: ведь зимой его часто посылали принести дров. Но самый предмет — дрова — не казался ему достаточно интересным, чтобы произносить его название. Это произошло только в тот мартовский день, когда он сидел на поленнице. Поленница была сложена в виде скамьи у южной стены сарая мадам Гайар под крышей, образующей навес. Верхние поленья пахли горячо и сладко, из глубины поленницы поднимался легкий аромат моха, а от сосновой стены сарая шла теплая струя смоляных испарений.
Гренуй сидел на дровах, раздвинув ноги и опираясь спиной на стену сарая, он закрыл глаза и не двигался. Он ничего не видел, ничего не слышал и не ощущал. Он просто вдыхал запах дерева, клубившийся вокруг него и скапливавшийся под крышей, как под колпаком. Он пил этот запах, утопал в нем, напитывался им до самой последней внутренней поры, сам становился деревом, он лежал на груде дерева, как деревянная кукла, как пиноккио, как мертвый, пока, спустя долгое время, может быть через полчаса, он изрыгнул из себя слово «дрова». Так, будто он был до краев полон дровами, словно он был сыт дровами по горло, словно его живот, глотка, нос были забиты дровами, — вот как его вытошнило этим словом.
И это привело его в себя, спасло от пересиливающего присутствия самого дерева, от его аромата, угрожавшего ему удушьем. Он подобрался, свалился с поленницы и поковылял прочь на деревянных ногах. Еще несколько дней спустя он был совершенно не в себе от интенсивного обонятельного впечатления и когда воспоминание с новой силой всплывало в нем, бормотал про себя, словно заклиная: «Дрова, дрова».
Так он учился говорить. Со словами, которые не обозначали пахнущих предметов, то есть с абстрактными понятиями, прежде всего этическими и моральными, у него были самые большие затруднения. Он не мог их запомнить, путал их, употреблял их, даже уже будучи взрослым, неохотно и часто неправильно: право, совесть, Бог, радость, ответственность, смирение, благодарность и т. д. — то, что должно выражаться ими, было и осталось для него туманным. С другой стороны, обиходного языка вскоре оказалось недостаточно, чтобы обозначить все те вещи, которые он собрал в себе как обонятельные представления. Вскоре он различал по запаху уже не просто дрова, но их сорта: клен, дуб, сосна, вяз, груша, дрова старые, свежие, трухлявые, гнилые, замшелые, он различал на нюх даже отдельные чурки, щепки, опилки — он различал их так ясно, как другие люди не смогли бы различить на глаз. С другими вещами дело обстояло примерно так же.
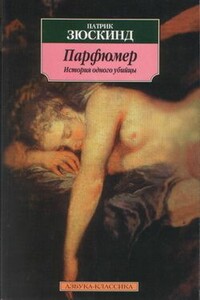
Это «Парфюмер». Культовый роман, который не нуждается в представлении. Опубликованный впервые в Швейцарии в 1985 году, он сразу завоевал бешеную популярность и продолжает занимать прочное место в первой десятке мировых бестселлеров до сих пор. Сегодня его автор — Патрик Зюскинд — настоящая звезда интеллектуальной моды, один из лидеров художественного истэблишмента Старого и Нового Света. За последнее время такого стремительного взлета не знал ни один литератор, пишущий на немецком языке.
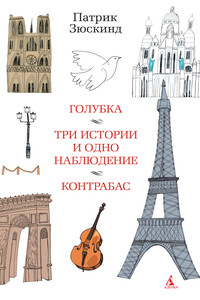
Патрик Зюскинд относится к числу самых популярных писателей ХХ века. Правда, нередко его называют автором лишь одного романа – «Парфюмер». Познакомившись с этой книгой, читатель легко убедится, что такое мнение ошибочно. Под одной обложкой собраны повесть «Голубка» («маленький шедевр в прозе»), четыре сравнительно коротких, но бесспорно интересных рассказа и пьеса «Контрабас», первое произведение Зюскинда, в котором поднимается тема «маленького» человека. Здесь автор раскрывается как великолепный психолог, мистификатор, человек, наделенный тонким чувством юмора и редкой фантазией.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
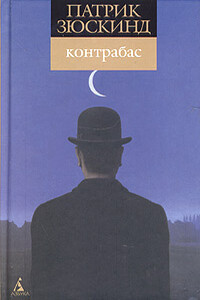
Пьеса «Контрабас» — первое произведение выдающегося немецкого писателя Патрика Зюскинда. После премьеры в Мюнхене она стала одной из самых популярных в Европе. Хотя сам Патрик Зюскинд играет не на контрабасе, а на фортепиано, ему удалось создать то, «что не написал еще ни один композитор: меланхолическое произведение для одного контрабаса» (Дитер Шнабель).В одноактном монологе «Контрабас», написанном в 1980 г., Зюскинд блестяще рисует образ «аутсайдера, психически неуравновешенного индивида» (Вольфрам Кнорр), который, тем не менее, почти сразу завоевывает симпатии читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
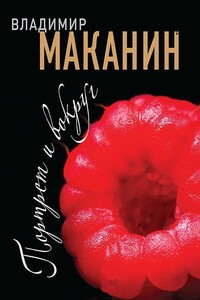
Когда в семье один из супругов — человек творческий, пишет книги или рисует картины, другому не всегда бывает просто понять и принять. Постоянные «измены» с Музой, перепады настроения от отчаяния до радостного экстаза, полная беспомощность в быту — может ли любовь двух людей выдержать это? Владимир Маканин нарисовал в романе «портрет» такой «творческой» семьи. По-своему счастливой и несчастной одновременно.

Это пятый сборник прозы Максима Осипова. В него вошли новые произведения разных жанров: эссе, три рассказа, повесть и драматический монолог – все они сочинены в новейшее время (2014–2017 гг.), когда политика стала активно вторгаться в повседневную жизнь. В каком бы жанре ни писал Осипов, и на каком бы пространстве ни разворачивались события (Европа, русские столицы, провинция), более всего автора интересует современный человек с его ожиданиями и страхами. Главное, что роднит персонажей Осипова, – это состояние одиночества, иногда мучительное, но нередко и продуктивное.Максим Осипов – лауреат нескольких литературных премий.
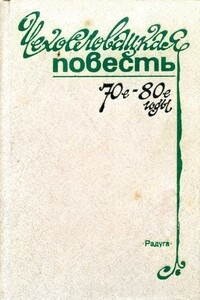
Сборник знакомит с творчеством известных современных чешских и словацких прозаиков. Ян Костргун («Сбор винограда») исследует морально-этические проблемы нынешней чешской деревни. Своеобразная «производственная хроника» Любомира Фельдека («Ван Стипхоут») рассказывает о становлении молодого журналиста, редактора заводской многотиражки. Повесть Вали Стибловой («Скальпель, пожалуйста!») посвящена жизни врачей. Владо Беднар («Коза») в сатирической форме повествует о трагикомических приключениях «звезды» кино и телеэкрана.Утверждение высоких принципов социалистической морали, борьба с мещанством и лицемерием — таково основное содержание сборника.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

История о жизни, о Вере, о любви и немножко о Чуде. Если вы его ждёте, оно обязательно придёт! Вернее, прилетит - на волшебных радужных крыльях. Потому что бывает и такая работа - делать людей счастливыми. И ведь получается!:)Обложка Тани AnSa.Текст не полностью.