Избранное - [3]
Конечно, они давали кусок хлеба. Кстати сказать, дело подошло к пенсии. Отчего бы и не позволить себе пятикратно заслуженный отдых, те пушкинские «покой и волю», до которых дожить не чаялось и выше которых разве что-нибудь есть на свете?
Очевидно, есть, раз душа не стерпела. Иначе не объяснить постепенное вытеснение переводческих книг журналистикой.
Газетное выступление короче журнального. Не идет в сравнение с книгой. Предполагается, что срок его жизни мотыльковый — день. Да к тому же сколько приходится ждать этого дня, чтобы до хрипоты спорить о фразе и уступать абзацы. Но факт остается фактом. Воздействие газетной статьи, рожденной сердцем и разумом, сильнее, быстрее, реальнее, чем воздействие вроде бы долговечной книги, отлежавшей годы в издательстве, затем отстоявшей десятилетие на полке, в библиотеке — пока комиссия не вынесет приговор о списании.
Общественный темперамент все чаще склонял к периодике, имеющей массовый, порою миллионный тираж и широкий, подчас союзный резонанс.
Когда-то многое было дано. Через полвека опять, в который раз уже, теорема жизни не давала покоя, настаивала на решении: «Требуется доказать!»
Сравнительно быстро обнаружилось, что самые строптивые из очерков и статей не хотят умирать. Нет, иначе: умерев на газетно-журнальных полосах, они упрямо возрождались в сборниках. Очеркиста признали издательства.
К примеру, в 1976 году «Советская Россия» выпустила томик «Чур, заповедано!». В него вошли десять очерков, каждый из которых знакомил с нелегкой жизнью одного из сотни существовавших тогда в стране заповедников: Центрально-Черноземного, расположенного на курской земле, в степи Стрелецкой; Усманского бора, в краях воронежских, охраняемого как убежище для оленей, бобров, кабанов, как место спасения и разведения, изучения лесного зверя и дикой птицы. Другие очерки вели в Предкавказье, Теберду, устье Волги. В красноярские «Столбы» — заповедник, учрежденный в 1925 году. По соболиным следам на Баргузинском хребте и вокруг Байкала. В Кедровую падь Уссурийского края. На склоны Сихотэ-Алиня. На Камчатку.
Сборник примечателен не только широтою географического охвата. В нем есть целеустремленность идеи. Книга заканчивается словами:
«Береза не раз служила символом и олицетворением обаяния и красоты, непреходящей поэтичности русской природы. Так вот, надо помнить, что наступил на земле период истории, когда может расти, затенять землю и шелестеть на ветру лишь оберегаемая, окруженная заботами человека береза: без этих забот она обречена…»
Господствует в книге факт. Суховатый, точный, пренебрегающий кокетством, равнодушный к интриге. Факт сам по себе столь серьезный, нередко столь драматичный, что всякого рода беллетристический ширпотреб, стекляшки и мишура лишь снижали бы его значение. Больше того, унижали бы и факт и автора.
Сборник не заподозришь в лакировке. В осторожном сокрытии теневых сторон. И вместе с тем он свободен от мрачности, безысходности. Уверен, впечатление это возникает в первую очередь потому, что автор повсюду встречает подвижников, энергия и позиция которых просто несовместимы с пассивностью, обреченностью.
Олег Васильевич пишет, что он встречал немало отличных работников — егерей, лесников, — охранявших свои зеленые владения не за страх, а за совесть, таких, что никакие блага не могли бы сманить их, заставить покинуть трудную и нередко опасную службу.
Природа не существует в сборнике вне истории, вне классической прозы, поэзии. Синтез нагляден. Говоря о Стрелецкой степи, Олег Волков не забудет привести выдержку из «Слова о полку Игореве», из Гоголя, из «древних бумаг», удержавших сведения, что стрельцы на «отведенной им сеножати ставили по шесть тысяч копен сена». Повествуя о низовьях Волги, сошлется на Дженкинсона, английского посла времен Грозного, который, добравшись сюда, отметил в дневнике «покупку двухсот стерлядей за пятнадцать грошей», с удовольствием вспомнит, что икрой, привезенной из Астрахани, Тургенев угощал Флобера, Доде, Гонкуров, Золя, тоже не упустивших случая сделать в дневниках записи об этом.
Ни земной поклон подвижникам, ни сдержанность интонации, когда предъявляется счет за равнодушие и жестокость к природе, не должны вводить в заблуждение. Очерки рождены горечью и пониманием реальности. Рождены болью за природу, которую мы безрассудно отравляем, вытаптываем, губим, а вместе с нею самих себя.
Олег Волков дело свое ценит больше, чем самого себя. Можно сказать, что не Волков выбрал защиту лесов, озер, заповедников, иными словами, природы Родины, а Усманский бор, Баргузинский хребет, Кедровая падь, Байкал — сама природа — выбрали Волкова своим ходоком и поборником.
Обратимся к нашим дням. В 1985 году «Современник» выпустил очередную книгу Олега Волкова «Каждый камень в ней живой. Из истории московских улиц». На первый взгляд, она отличается от сборника «Чур, заповедано!» всем: форматом, бумагой, богатством иллюстраций, главное же — темой. Но почитав, да еще подумав о двух разных книжках, убеждаешься, что стержень-то у них общий.
Задача «Чур, заповедано!» — спасать природу.
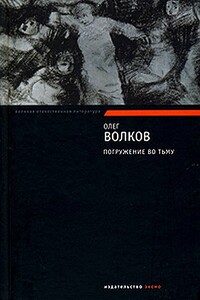
Олег Васильевич Волков — русский писатель, потомок старинного дворянского рода, проведший почти три десятилетия в сталинских лагерях по сфабрикованным обвинениям. В своей книге воспоминаний «Погружение во тьму» он рассказал о невыносимых условиях, в которых приходилось выживать, о судьбах людей, сгинувших в ГУЛАГе.Книга «Погружение во тьму» была удостоена Государственной премии Российской Федерации, Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера и других наград.
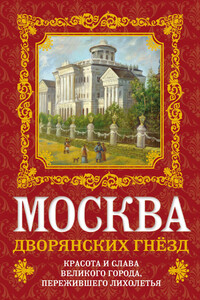
Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.
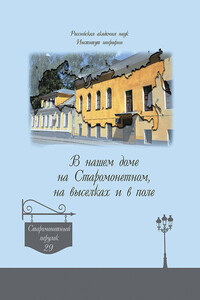
В книге собраны очерки об Институте географии РАН – его некоторых отделах и лабораториях, экспедициях, сотрудниках. Они не представляют собой систематическое изложение истории Института. Их цель – рассказать читателям, особенно молодым, о ценных, на наш взгляд, элементах институтского нематериального наследия: об исследовательских установках и побуждениях, стиле работы, деталях быта, характере отношений, об атмосфере, присущей академическому научному сообществу, частью которого Институт является.Очерки сгруппированы в три раздела.
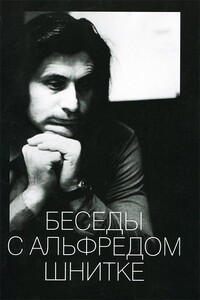
Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке.
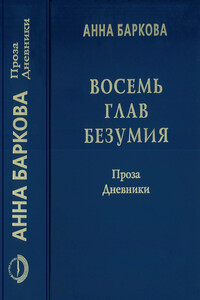
А. А. Баркова (1901–1976), более известная как поэтесса и легендарный политзек (три срока в лагерях… «за мысли»), свыше полувека назад в своей оригинальной талантливой прозе пророчески «нарисовала» многое из того, что с нами случилось в последние десятилетия.Наряду с уже увидевшими свет повестями, рассказами, эссе, в книгу включены два никогда не публиковавшихся произведения — антиутопия «Освобождение Гынгуании» (1957 г.) и сатирический рассказ «Стюдень» (1963).Книга содержит вступительную статью, комментарии и примечания.
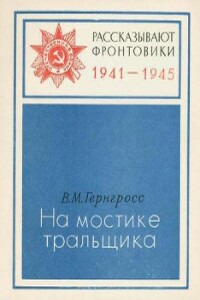
Автор воспоминаний капитан 1 ранга в отставке Владимир Михайлович Гернгросс в годы войны командовал тральщиком «Щит», награжденным в марте 1945 года орденом Красного Знамени. Этот небольшой корабль не только тралил мины, но и совершал рейсы в осажденную Одессу, а затем в Севастополь, высаживал десанты на Малую землю и в Крым, ставил мины, выполнял другие боевые задания. В книге тепло говорится о матросах, старшинах и офицерах тральщика, рассказывается об их подвигах, раскрывается духовная жизнь экипажа.
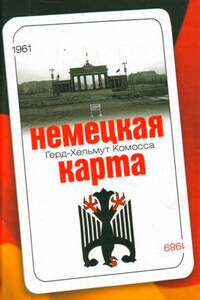
Эта книга написана бывшим генералом бундесвера, оценивающим политическую деятельность через призму ответственности. Она рассказывает о «времени, наступившем после», с позиции немецкого солдата, который испытал все лишения и страдания на передовой во время войны и в течение четырех лет плена.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.