Избранное: Социология музыки - [217]
Об этом скажу пока несколько самоочевидных и общеизвестных вещей.
Как в своих симфониях Антон Брукнер завоевывает новый смысл паузы, всем известно: из водораздела между частями формы, у Брукнера поначалу слишком маркированного момента, пауза становится чем-то иным, что обретает абсолютность. Из знака препинания вырастает абсолютное. Генеральная пауза оказывается противоположным этим полюсом компактному тутти, однородному и максимально громкому звучанию всего оркестра. Очень легко пойти тут дальше и увидеть, например, что однородное тутти противополагается общей паузе как человеческой способ говорить о сути дела – божескому, божественному. Все то позитивное, что способен сказать человек, т.е. оркестр внутри разворачиваемого и порученного ему смысла, – это ничто по сравнению с тем языком самой сути, который нам недоступен: в паузе должно прозвучать неслышное это недоступное иное. Пауза здесь – это все еще человеческий язык, потому что мы молчим, не умея ничего сказать. Но музыка означает иное, то иное, которое как бы и становится слышно – согласно тому, как размещена она внутри разворачивающегося смысла. Эта пауза – на той обнаруживающейся в произведении, в его устроенности грани, где самые ответственные позитивные утверждения равнозначны и равносильны самым ответственным негативным утверждениям: когда о Боге утверждают, что он есть то-то и то-то, то при этом знают или должны знать, что Бог не есть это, ибо его сущность превосходит любые свойства, какие можем приписать мы ему, говоря на своем человеческом языке.
Наряду с компактным тутти и общей паузой, которые противоположны друг другу, а при этом окружают одну, последнюю грань и приближаются к ней, у Брукнера начинает расслаиваться оркестровое пространство. Оно расслаивается как пространство смысловое, со своим верхом, серединой и низом, с возможностью передвигать линии и массы внутри этого пространства как уже созданного. Нисходящие по ступеням звукоряда нарочито замедленные линии способны становиться в последних его симфониях событием, и одно это уже выдает нам удивительные особенности этого пространства, его прочность. Событием может становиться, выходит, такое место, где как будто и не происходило ровным счетом ничего: такая линия может звучать у Брукнера на фоне лежащего баса и на фоне стоящей гармонии,- при этом было бы чрезмерно легко и совершенно неоправданно искать тут какой-либо непосредственный символизм. Зато это обстоятельство – возникновение смыслового пространства – настоятельно напоминает нам о том, что все совершающееся внутри музыки как смысла должно быть технологически оформлено и закреплено, должно быть реализовано. Когда возникает такое смысловое пространство, то это всегда пространство звучащей музыки, оркестра; в этом пространстве обнаруживается и пустота и молчание.
Как это молчание и умолчание у Веберна оформлено – это большая и собственно творческая загадка; если мы вдруг станем равнодушными к творчеству Веберна, то эта загадка, или этот обращенный к нам его основной вопрос просто исчезнет для нас, он пропадет – т.е. попросту перестанет звучать.
Можно представить себе, как в более позднем творчестве Веберна это трепетное побуждение к творчеству замирает и в устроенности его музыки превращается в то, что можно принять за чистую – отвлеченную – структуру.
Таким способом подготавливаются предпосылки того, чтобы язык этой музыки воспринимался как готовый другой язык музыки вообще,- т.е. не как язык, напряженно складывающийся, очень конкретно "диктуемый" опытом истории,- слово диктуемый, хотя и в кавычках, но не потому, чтобы оно по сути было неверно,- а как просто-напросто данный язык в его системности. Так это и случилось.
Напротив, можно было бы предположить,- хотя это только предположение,- что самые последние опусы Веберна заключают в себе тоску по всему тому, что для них оказывается под запретом. Если представить себе, что в трех пьесах для виолончели и других сочинениях примерно того же склада Веберн вынужден молчать о том, о чем молчит,- по внутренней потребности,- то затем мы можем представить себе, что впоследствии он о многом молчит, потому что уже открылась такая возможность, притом она открылась для него как возможность своего языка. Побуждение к творчеству оказывается тогда запечатленным в осознавшей себя структурности. Как бывает нередко, композитор тогда слишком хорошо знает, как ему следует писать. Вместе с тем осознание пространственности музыки поддерживается восприятием и осмыслением пространственности природы.
* * *
Вот наша инерция в отношении к музыке Веберна. Когда жил Веберн, то в том направлении музыкального творчества, к которому он принадлежал, господствовал прогрессистский взгляд на искусство. И мы до сих пор смотрим на Веберна через призму такого взгляда, забывая о том, что во взглядах этой школы убеждение в прогрессе искусства было все равно чем-то самым консервативным и косным остатком – от привычного мышления XIX века.
Впрочем, без этой консервативной черты был бы совершенно неясным весь творческий путь Веберна – ни логика его творческого развития, ни логика его музыкального мышления. Истолкование всего и музыкального языка как именно развития и своего движения вперед придавало творчеству то, что можно было бы назвать неотступностью. Ни Шёнбергу, ни Бергу это не было свойственно в той же степени.

Что такое авторитарная личность?Почему авторитарный лидер быстро подчиняет себе окружающих и легко ими манипулирует?Чем отличается авторитарная личность от социопатической, хотя и имеет с ней много общего?Почему именно в XX веке появилось столько диктаторов, установивших бесчеловечные, тоталитарные режимы при поддержке миллионов людей?На эти и многие другие вопросы отвечает Теодор В. Адорно в своем знаменитом произведении, ставшем классикой философской и социологической мысли! Перевод: М. Попова, М. Кондратенко.
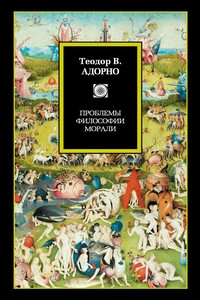
В основу этой книги легли семнадцать лекций, прочитанных Теодором В. Адорно в 1963 году и в начале 1990-х восстановленных по магнитофонным записям.В этих лекциях, парадоксальным образом изменивших европейские представления о философии морали, немецкий ученый размышляет об отношении морали и личной свободы, закона и религии и решает важнейшие проблемы современной философской науки.

«Культурная индустрия может похвастаться тем, что ей удалось без проволочек осуществить никогда прежде толком не издававшийся перевод искусства в сферу потребления, более того, возвести это потребление в ранг закономерности, освободить развлечение от сопровождавшего его навязчивого флера наивности и улучшить рецептуру производимой продукции. Чем более всеохватывающей становилась эта индустрия, чем жестче она принуждала любого отдельно стоящего или вступить в экономическую игру, или признать свою окончательную несостоятельность, тем более утонченными и возвышенными становились ее приемы, пока у нее не вышло скрестить между собой Бетховена с Казино де Пари.

Теодор Визенгрундт Адорно (1903-1969) - один из самых известных в XX веке немецкий философ и социолог леворадикальной ориентации. Его философские воззрения сложились на пересечении аргументов неогегельянства, авангардистской критики культуры, концептуального неприятия технократической рациональности и тоталитарного мышления. Сам Адорно считал "Негативную диалектику" своим главным трудом. Философия истории представлена в этой работе как методология всеобщего отрицания, диалектика -как деструкция всего данного.

Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI-Budapest) и института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF-Moscow) Существует два варианта перевода использованного в оформлении обложки средневекового латинского изречения. Буквальный: сеятель Арепо держит колесо в работе (крутящимся), и переносный: сеятель Арепо умеряет трудом превратности судьбы. Для Веберна эта формульная фраза являлась символом предельной творческой ясности, лаконичности и наглядности (FaBlichkeit), к которым он стремился и в своих произведениях.

Впервые на русском языке выходит книга выдающегося немецкого мыслителя XX века Теодора Адорно (1903–1969), написанная им в эмиграции во время Второй мировой войны и в первые годы после ее окончания. Озаглавленная по аналогии с «Большой этикой» («Magna moralia») Аристотеля, эта книга представляет собой отнюдь не систематический философский труд, а коллекцию острокритических фрагментов, как содержание, так и форма которых отражают неутешительный взгляд Адорно на позднекапиталистическое общество, в котором человеческий опыт дробится, рассыпается и теряет всякие ориентиры.
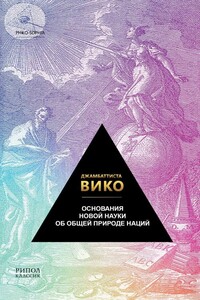
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.

Интеллектуальная автобиография одного из крупнейших культурных антропологов XX века, основателя так называемой символической, или «интерпретативной», антропологии. В основу книги лег многолетний опыт жизни и работы автора в двух городах – Паре (Индонезия) и Сефру (Марокко). За годы наблюдений изменились и эти страны, и мир в целом, и сам антрополог, и весь международный интеллектуальный контекст. Можно ли в таком случае найти исходную точку наблюдения, откуда видны эти многоуровневые изменения? Таким наблюдательным центром в книге становится фигура исследователя.
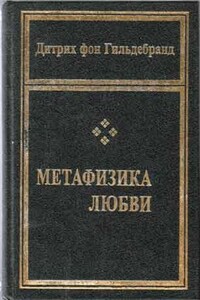
«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».
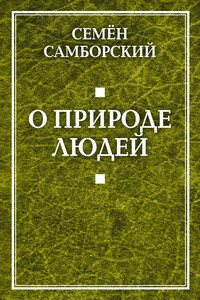
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.
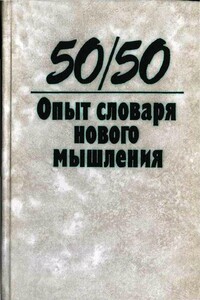
Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.