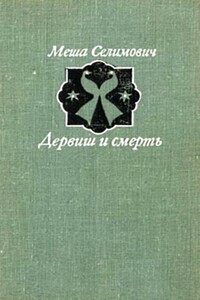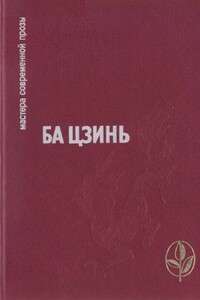Избранное - [23]
И словно бы моя воля в самом деле оказала свое действие, шаги удалились и растерянно замерли, кто-то сомневался — а не задержаться ли, они могли еще вернуться, но нет, пошли по улице обратно в город.
Человек оставался в том же положении, но оцепенение наверняка постепенно сходило с него, и чем дальше удалялись шаги, тем меньше оставалось у него сил.
Хорошо, что так окончилось. Если б они схватили его, стали бить в моем присутствии, жестокая расправа врезалась бы мне в память, позже пришло бы раскаяние в том, что какой-то миг я был готов его выдать и что эта охота на человека доставляла мне удовольствие, пусть болезненное, но удовольствие. Теперь же, даже если оно появится, это раскаяние, оно будет более слабым.
Я не думал о том, кто прав, кто виноват, меня это не касалось, пусть люди сами разбираются в своих делах и вина обнаруживается без труда, а справедливость — это право делать то, что, по нашему мнению, нужно сделать, и тогда справедливостью может оказаться все. И несправедливостью также. Пока я ничего не знаю, нет и определения, и я не хочу вмешиваться. Правда, я уже вмешался своим молчанием, но оно не выдает меня, я всегда могу оправдать его причинами, которые для меня окажутся самыми удобными, если я узнаю правду.
Предоставляя человека самому себе, я направился к дому, теперь беглец может поступать, как ему угодно. Погоня миновала, пусть он идет своим путем. Я смотрел прямо перед собой, в песок тропинки и зеленую кайму травы, пытаясь отключиться, разорвать те тонкие нити, что связывали нас мгновение до этого, пусть остается только то, что есть, неизвестный, с которым не скрестился ни мой взгляд, ни мой путь. Однако, даже не глядя, я различал белизну его рубахи и белизну лица, может быть, видел внутренним взором, как он опустил руки и сомкнул ноги, он больше не напрягался и не был сгустком трепещущих нервов, которые оживают лишь в ту минуту, когда решается, чему быть — жизни или смерти, но человек уже освобожден от мгновенного мучения, освобожден для мысли о том, что его ждет. Ибо я понимал: ничто еще не решено между ним и его преследователями, все еще предстоит, а сейчас просто отодвинуто на неопределенное время, возможно на следующий миг, поскольку ему суждено было спасаться, а им — ловить его. Потом мне почудилось, будто он поднял руку, нерешительно, едва отделив ее от тела, словно бы желая остановить меня, что-то сказать мне, склонить меня вмешаться в его судьбу. Не знаю, видел ли я это и в самом ли деле он это сделал или же я угадал движение, которое он мог, должен был сделать. Я не остановился, я не желал больше ни во что вмешиваться. Вошел в дом и повернул ключ в заржавевшем замке.
Этот скрежещущий звук, которым я оградил себя, долго еще звучал в комнате. Для него он означал освобождение или, быть может, еще больший страх, совершенное одиночество.
Я ощутил потребность взять книгу, Коран или еще какую-нибудь — о морали, о великих людях, о священных днях, меня должна была успокоить музыка знакомых фраз, в которые я верю, о которых я даже не думаю, ибо они всегда во мне, как моя система кровообращения. Мы не думаем о ней, а она для нас все, она дает нам возможность жить и дышать, она позволяет нам высоко держать голову, придает всему свой смысл. Меня всегда странным образом убаюкивала эта цепь красивых слов о вещах, которые мне были известны. В том кругу, где я вращался, я чувствовал себя уверенно, там нет засад, которыми угрожают люди и мир.
Неладно было только то, что хотелось взять любую книгу и что потребовалась защита привычных мыслей. Чего я боялся? От чего хотел бежать?
Тот человек находился еще внизу, я знал, в саду, было слышно, если б он открыл ворота. Не зажигая огня, я стоял в желтой тьме комнаты, мои ноги освещала луна, и ждал. Чего я ждал?
Он был еще внизу, в этом заключалось все. Довольно того, что текия спасла его, он должен уйти. Почему он не уходит?
В комнате пахло старым деревом, старой кожей, старым дыханием, тени умерших юных девушек лишь иногда пробегали по ней, я привык к ним, они жили здесь до меня. И теперь в этот старый мир, в это старое убежище вошел новый, незнакомый человек с белым пятном лица, с раскинутыми руками и ногами, который сам себя распял в воротах. Я знал, что он изменил позу, видел, как обвисло его тело, как вдруг обломилось сплетение его костей, и все стало новым, важным, болезненным, а я помнил его прежнюю судорогу и его усилие, его напряжение, которое живет, борется, не уступает никому, я помнил вытянутые пружины его мускулов, способных на чудо. Мне больше нравилась та, прежняя картина, а не нынешняя, разбитая. Она сулила больше надежды, легче освобождала меня, наполняла уверенностью в собственных силах. В другой таились зависимость, отчаяние, нужда в опоре. Вспомнилось виденное или угаданное движение, которым он хотел привлечь мое внимание. Он призывал меня, просил не проходить мимо него, его ужаса, словно меня ничто не касается. Если же он этого не сделал, если я лишь вообразил себе это неизбывное движение жизни, которая обороняется и призывает на помощь, тогда он совсем без сил, а теперь и без надежды. Жаль, что мне ничего о нем не известно. Если он виноват, я бы не стал думать об этом человеке.
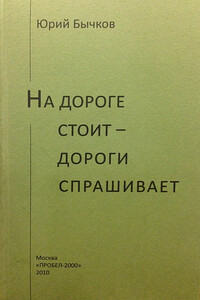
Как и в первой книге трилогии «Предназначение», авторская, личная интонация придаёт историческому по существу повествованию характер душевной исповеди. Эффект переноса читателя в описываемую эпоху разителен, впечатляющ – пятидесятые годы, неизвестные нынешнему поколению, становятся близкими, понятными, важными в осознании протяжённого во времени понятия Родина. Поэтические включения в прозаический текст и в целом поэтическая структура книги «На дороге стоит – дороги спрашивает» воспринимаеются как яркая характеристическая черта пятидесятых годов, в которых себя в полной мере делами, свершениями, проявили как физики, так и лирики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
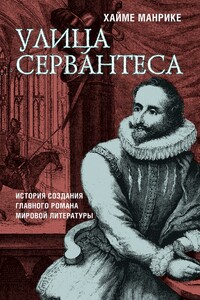
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.
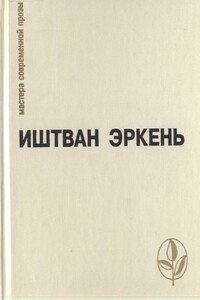
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.
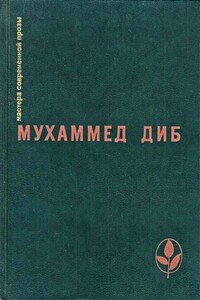
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.
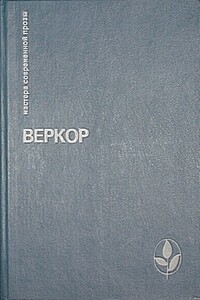
Веркор (настоящее имя Жан Брюллер) — знаменитый французский писатель. Его подпольно изданная повесть «Молчание моря» (1942) стала первым словом литературы французского Сопротивления.Jean Vercors. Le silence de la mer. 1942.Перевод с французского Н. Столяровой и Н. ИпполитовойРедактор О. ТельноваВеркор. Издательство «Радуга». Москва. 1990. (Серия «Мастера современной прозы»).