Избранное: Романы, рассказы - [14]
Я с незапамятных времен принимал как данность то, что мне сообщили, когда я был еще ребенком, а именно — будто мой дед не оставил ни строчки, написанной его рукой. Тем сильнее было мое волнение, когда не так давно, открыв потайной ящичек своего письменного стола, доставшегося мне по наследству, я наткнулся на целую пачку заметок, которые явно были написаны дедом.
Они лежали в папке, на которой начертана была странная фраза: «Как человеку избежать смерти, пусть даже он ее не ждет и на нее не уповает». Во мне тут же вспыхнуло слово «vivo», которое на протяжении всей моей жизни сопровождало меня, подобно ясному сиянию, и лишь ненадолго утихомиривалось, чтобы, то в грезах, то наяву, все снова и снова без особого внешнего повода просыпаться во мне. И если раньше мне порой казалось, что то слово «vivo» могло оказаться на надгробной плите случайно — мало ли какую надпись захотелось выбрать священнику, — то теперь, прочтя изречение на обложке рукописи, я обрел полную уверенность в том, что речь идет, должно быть, о чем-то гораздо более глубоком и значительном, о чем-то таком, что наполняло, быть может, все существо моего деда.
И то, что я прочел дальше в его записках, укрепляло меня в моих предположениях с каждой новой страницей. Там слишком часто шла речь о личных отношениях, чтобы я имел право поверять все это чужим ушам, поэтому, наверное, будет достаточно, если я вскользь коснусь лишь того, что привело меня к знакомству с Иоганном Германом Оберайтом и было связано с его визитом к пиявкам-жизнесосам.
Как выяснилось из записок, мой дед принадлежал к обществу «Филадельфийских Братьев», некоему ордену, который уходит корнями аж в Древний Египет и называет своим основателем легендарного Гермеса Трисмегиста>{8}. Подробно объяснялись также «знаки» и жесты, по которым члены ордена узнавали друг друга. Очень часто упоминалось имя Иоганна Германа Оберайта, химика, который, похоже, был близким другом деда и, видимо, жил в Рункеле. Чтобы узнать подробности о жизни моего предка и о той мрачной философии отречения от мира, которая сквозит в каждой строке его записок, я решил поехать в Рункель, чтобы на месте разузнать, не осталось ли потомков у вышеупомянутого Оберайта и нет ли фамильной хроники.
Нельзя и вообразить себе место, более погруженное в забытье, чем этот крохотный городишко, который, пребывая в беззаботных снах, словно забытый островок Средневековья, с кривыми, мертвенно-пустыми переулками и поросшим травой бугристым булыжником у подножия вздымающегося на утесе замка Рункельштайн, родового поместья князей фон Вид, не слышит воплей времени.
Уже рано утром меня повлекло на то самое маленькое кладбище, и вмиг пробудилась во мне вся моя юность, когда под сияющими лучами солнца я переходил от одного холмика цветов к другому, прочитывая на крестах имена тех, кто там, под ними, спал вечным сном в своих гробах. Еще издали по сияющей надписи узнал я надгробие моего деда.
Пожилой седовласый человек, без бороды, с резкими чертами лица, сидел перед могилой, уперев подбородок в костяную рукоять своей трости, и смотрел на меня поразительно живым взглядом, как человек, в котором знакомые черты чьего-то лица пробуждают череду воспоминаний.
Одетый старомодно, в наряд чуть ли не времен бидермейера>{9}, с жестким стоячим воротничком и черным шелковым шейным платком, он похож был на образ предка давно минувших времен. Я до того был удивлен его обликом, который абсолютно не вписывался в современность, и до того погрузился мыслями во все то, что почерпнул из наследия моего деда, что, едва ли сознавая, что делаю, вполголоса произнес имя Оберайт.
— Да, мое имя — Иоганн Герман Оберайт, — сказал пожилой господин, ничуть не удивившись.
У меня перехватило дыхание, и от того, что я узнал далее, в ходе нашей беседы, мое удивление могло только увеличиться.
Ведь никак нельзя отнести к заурядным впечатлениям образ человека, который кажется не старше тебя, но у которого за плечами полтора столетия. Несмотря на свои уже седые волосы, я ощущал себя юнцом, когда шел с ним рядом, и он так рассказывал мне о Наполеоне и о других исторических личностях, которых он знал, словно эти люди умерли лишь недавно.
— В городе меня считают моим собственным внуком, — сказал он с усмешкой и указал на надгробие, мимо которого мы как раз проходили и на котором значился 1798 год. — Согласно закону я должен был быть погребен вот здесь; я счел необходимым указать здесь эту дату смерти, ибо не хотел, чтобы толпа считала меня новоявленным Мафусаилом>{10}. А слово «vivo», — добавил он, — появится здесь лишь тогда, когда я буду на самом деле мертв.
Вскоре мы сдружились, и он настоял на том, чтобы я жил у него.
Вот прошел уже почти целый месяц, и мы частенько до глубокой ночи сиживали, ведя оживленную беседу, но он неизменно уклонялся от ответа, когда я задавал вопрос, что, собственно, могло означать изречение на лицевой стороне папки, принадлежавшей деду: «Как человек хочет избежать смерти, пусть даже он ее не ждет и на нее не уповает». Но однажды вечером — последним вечером, который мы провели вместе (речь у нас зашла о прежних судах над ведьмами, и я отстаивал точку зрения, что наверняка то были просто-напросто женщины-истерички), — он внезапно прервал меня:

«Голем» – это лучшая книга для тех, кто любит фильм «Сердце Ангела», книги Х.Кортасара и прозу Мураками. Смесь кафкианской грусти, средневекового духа весенних пражских улиц, каббалистических знаков и детектива – все это «Голем». А также это чудовище, созданное из глины средневековым мастером. Во рту у него таинственная пентаграмма, без которой он обращается в кучу земли. Но не дай бог вам повстречать Голема на улице ночной Праги даже пятьсот лет спустя…

Проза Майринка — эзотерическая, таинственная, герметическая, связанная с оккультным знанием, но еще и сатирическая, гротескная, причудливая. К тому же лаконичная, плотно сбитая, не снисходящая до «красивостей». Именно эти ее особенности призваны отразить новые переводы, представленные в настоящей книге. Действие романа «Вальпургиева ночь», так же как и действие «Голема», происходит в Праге, фантастическом городе, обладающем своей харизмой, своими тайнами и фантазиями. Это роман о мрачных предчувствиях, о «вальпургиевой ночи» внутри каждого из нас, о злых духах, которые рвутся на свободу и грозят кровавыми событиями. Роман «Ангел западного окна» был задуман Майринком как особенная книга, итог всего творчества.
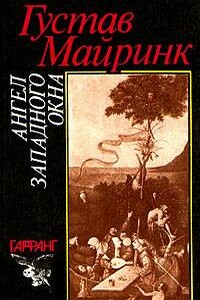
«Ангел западного окна» — самое значительное произведение австрийского писателя-эзотерика Густава Майринка. Автор представляет героев бессмертными: они живут и действуют в Шекспировскую эпоху, в потустороннем мире. Роман оказал большое влияние на творчество М. Булгакова.

В фантастическом романе австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) сочетание метафизических и нравственных проблем образует удивительное и причудливое повествование.
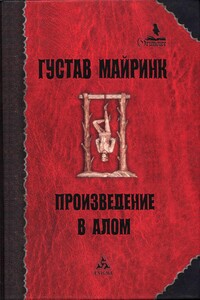
В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.

Произведения известного австрийского писателя Г. Майринка стали одними из первых бестселлеров XX века. Постепенно автор отказался от мистики и начал выстраивать литературный мир исключительно во внутренней реальности (тоже вполне фантастической!) человеческого сознания. Таков его роман «Белый Доминиканец», посвященный странствиям человеческого «я». Пропущенные при OCR места помечены (...) — tomahawk.