Избранное - [33]
Шрифт
Интервал
натянуть фуфайку, выпить рюмку,
и с дождем, выходит, можно нам ужиться,
влиться в струйку, вытянуться в струнку.
А всего вернее, может, затвориться,
пусть лукавит, соблазняет и лепечет,
что подмочено — уже не состоится.
Дождик знает, что там чет, а что там нечет.
В этот бред, капель древесную, дремоту
он подбавит два-три слова, две-три капли,
засыпание, забвенье, позолоту:
как бы, будто, словно, славно, вроде, вряд ли…
«Пополам раздвигая легкотяжелую штору…»
Пополам раздвигая легкотяжелую штору,
я от ненависти к зазеркалью опускаю глаза.
Что хочу я припомнить, что пришлось бы мне к сердцу и впору —
бесприютная тьма и заката вчерашнего полоса.
Почему-то нельзя эту штору задернуть на сутки,
надо злобно глядеть в неприметный и жалкий пейзаж,
в бестолковую заумь, расцветающую в рассудке,
отбивая стопою почти олимпийский мандраж.
Как в замызганном клубе экран разбухает от пятен
редких райских видений — они ведь бывали и там,
все равно вид реальности вымышлен и неприятен,
неопрятен всегда и особенно по утрам.
Как затворник я перебираю размытые тени —
то дубовую Англию, то расстроенный римский фонтан,
вот и речка Фонтанка обмывает у спуска ступени:
среди всей этой челяди я меценат и тиран.
Потому что уже ничего не привидится внове,
кроме утренних сумерек и городской суеты,
потому что предельно насыщен раствор пересоленной крови,
и едва пробивается день, в заоконные рухнув кусты.
Потому даже луч твоего зодиака
надо мною не властен, а только сулит свою жуть,
потому-то у собственной жизни в ногах я дремлю, как собака,
и пытаюсь во сне ее теплую руку лизнуть.
ПЯТИДЕСЯТЫЙ
Раскаленный фуникулер до причала пускает зайчик,
поднимаясь к санаторию Фрунзе имени Орджоникидзе.
В магазине на выбор — пол-литра, чекушка, мерзавчик…
Слева — дом дипломатов, а прямо — идут журналисты.
Это около Сочи. Я вижу все это впервые.
В трикотажных трусах с голубой полосою «Динамо»
я сижу под навесом и прыгаю в передовые
штормовые валы, что на пляж засылает упрямо
некий дух черноморья, властелин серединного года,
из пучины глядящий в затылок двадцатого века.
Сколько женского тела — шоколад, молоко, терракота,
но гораздо вкуснее поджаристый цвет чебурека.
Все прекрасно, ужасно и что-то, пожалуй, понятно,
нестерпимая блажь наползает к закату с Кавказа.
Закрываешь глаза — через веки багровые пятна,
проступают тревожно, как будто экзема, зараза.
Солнце Кобы еще высоко, над Москвой и над Рицей в зените,
сам же горный орел наблюдает без промаха в оба.
То, что знаешь, — храни, притаись, уподобься зенице
ока…
«В городе Кембридже под Рождество…»
В городе Кембридже под Рождество
снегом негаданным все развезло:
клумбы, куртины, газоны, аллеи,
горизонтали и параллели.
Ивы и клены, трава и кусты
стали мохнаты, а были пусты.
В доме чужом телевизор туманный,
джин откровенный и виски обманный,
свежее пиво и древний коньяк
и путешественник — бедный дурак.
СВЕТ С ВОСТОКА
В отеле «Атриум» — пять звездочек по Бедекеру —
заполуночный ужин уходит в рассветный «фриштык».
Ex oriente lux пробивается за портьеру,
золотя у подруги припудренный прыщик.
Ex oriente lux — это попросту «свет с Востока»,
кажется, что-то гностическое по части Святой Софии.
Выхожу на балкон и затягиваюсь глубоко
нервным, нежным озоном, совмещающим грозовые
придунайские волны и советские вихри с изнанки,
вижу тучи над северным окоемом.
У подъезда швейцар в голубом доломане охранки
принимает взносы у смены ночной с поклоном.
«Боже мой, — я думаю, — тут все еще Томаса Манна,
Фитцджеральда, Арлена продолжается листописанье!»
Трижды бармен осмотрит хрустальное донце стакана,
ибо форма сосуда переходит в его содержанье.
Что ж, вернуться за столик и пошарить в надорванной пачке,
на которой грустит дромадер — тоже вестник востока?
Что-то тошно, как бы в ожиданьи подачки,
и отводишь глаза, потому-то и видишь высоко.
В этом своде отеля, где мобили, дельфтские вазы,
слышишь музыку Моцарта, смешанную с «Мицуки».
И как дервиш чураешься сей обреченной заразы,
как паломник к святыне протягиваешь руки.
Видно, как побледнели привычные старые тени,
обреченно и нагло подведенное сузилось око,
слышно, как повторяет швейцар — шут и гностик — в смятенье:
«Свет с Востока, с Востока, с Востока, с Востока…»
НОВЫЙ СИМВОЛИЗМ
Ночь уходит по серому серым,
погружаясь на лунное дно,
и апокалипсическим зверем
залезая под утро в окно.
Здесь в Колхиде цветок сожаленья —
все, чем я заслониться могу,
если время наладит сцепленья
и меня перегонит в Москву.
И оттуда в подвал Петрограда,
в Комарово на берег пустой,
где меня не застанет награда
и не вычеркнет вечный покой.
И тогда в переулках Тишинки,
на каналах, в пустых берегах
я успею на ваши поминки
там, где розы и бредни и страх.
И тогда вы объявитесь снова
под мессинскою пылью своей —
Александра истошное слово
и твой бред необъятный, Андрей,
и твой русский анапест, Валерий,
и твой римский распад, Вячеслав,
тот французский раскат устарелый,
что тянулся, к Верлену припав.
Я — последнее слово в цепочке,
и в конце этой жизни пустой
вы теперь уже без проволочки
отпустите меня на покой.
В этот купол родной и знакомый,
где закат на заневских мостах,
я продену в петлицу законный
мой цветок — это роза и страх.
ВОСПОМИНАНИЯ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СЕЛЕ
Еще от автора Евгений Борисович Рейн
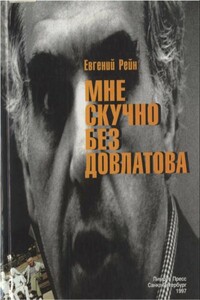
Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.