Избранное - [32]
Шрифт
Интервал
обогнавшему конкурентов на целый корпус.
Он выписал из Вьетнама обезьяну
и таскал ее за собой по коктебельским пляжам.
Как-то раз я встретил их в парке —
бросилась ко мне обезьяна, обняла за левую ногу.
Почему именно за левую ногу?
Я был смущен, даже обижен.
Что-то знала, что-то понимала обезьяна…
Но потом обида моя затерялась среди теней
волошинского залива,
и я решил сфотографироваться с обезьяной.
Вот стою я перед объективом,
обезьяна уселась на плечо моей дамы.
«Сидеть, Майя, сидеть, моя золотая», —
сказал фотограф.
И вдруг обезьянка крохотной ладонью
с отшлифованными коготками
постучала мне по лбу, провела по вискам и морщинам.
Затараторили, засмеялись дети,
отдернула ладошку обезьяна,
словно предсказатель, пойманный с поличным.
«Работать, Майя, работать!» — строго выговорил фотограф.
Щелкнул затвор, кончилась процедура.
Почему она притронулась к лобной кости?
Сначала обнимала мою левую ногу,
а потом погладила виски и морщины?
Символический жест? Простая случайность?
Некое предостережение от старшей ветви?
А может, все это видение, наваждение,
одним словом — майя.
Обезьяна Майя — тезка таинственной богини
из самого темного пантеона.
ДРЕВЕСНАЯ ЛЯГУШКА
В полночь я вернулся к своему домику в приморском парке
и увидел, что на пороге меня ждет древесная лягушка.
А может, и не древесная (я в этом плохо разбираюсь) —
просто спинка ее была в мелком симметричном узоре,
прежде я такого никогда не видел.
Я открыл дверь, и чемпионским прыжком
она перескочила ко мне на коврик.
Я зажег настольную лампу, навел на лягушку круг света.
Не уходила лягушка.
Быть может, она что-то хотела мне доверить,
принесла важную новость, предсказание, сводку погоды?
Быть может, я должен был догадаться по симметрии ее узора
о том и об этом?
Тщетно.
Глядел я, недогадливый, усталый, надменный
на земноводную вестницу из болота и парка.
Теперь-то я догадываюсь, что мог показаться ей бродячим деревом
какой-то особой породы,
о которой лягушки знают больше,
чем сами про себя эти деревья.
ЗООМАГАЗИН
На последней улице последнего городка Европы —
зоомагазин — в последнем доме.
Одна витрина глядит на канал и в поле,
другая выходит к ратуше и собору.
В той, самой крайней, что на канал и в поле,
выставлен белый какаду на продажу.
Не знаю точно, сколько живут попугаи,
но этот видел Кортеса и Дрейка.
А в той витрине, что поближе к собору,
сооружен аквариум два метра на два —
в этом аквариуме нечто вроде тропического рифа,
водоросли, актинии, моллюски и рыбки, рыбки.
Королева аквариума туманносетчатокоралловоголубая
стоит две тысячи марок — какое движение, приливы, отливы,
моторчик работает, бьет ключом стихия.
А за углом, где какаду в старинной клетке,
все уже потемнело…
Только канал, только туман с поля…
Белый какаду вспоминает Дрейка и засыпает,
потом просыпается и вспоминает Кортеса,
потом что-нибудь еще, вроде гибели «Великой Армады»…
Последний из последних
в последнем окне Европы.
ПО ШПАЛАМ
Поздним августом, ранним утром,
Перестуки, гудки, свистки.
На балтийском рассвете мутном
то, что прожито, бьет в виски.
Деревянный дом у вокзала,
тьма заброшенных фонарей,
тут вот молодость разбросала
лапу, полную козырей.
Вот и кончились три десятки
самых главных моих годов,
до копеечки, без оглядки…
Ты так думаешь? Я готов
здесь остаться в глухих завалах,
точно выполнив твой завет,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит рассвет.
Атлантической солью дует
ветер Балтики и тоски,
на перроне меня целует,
словно у гробовой доски.
Только Оливисте в тумане
пробивается в небеса,
ничего не скажу заране —
лишь послушаю голоса
перестуков, гудков, сигналов,
где-то катит и мой вагон,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит огонь.
Я был молод, и ты был молод,
Старый Томас, я старый пес.
О, какой на рассвете холод,
этот август — почти мороз.
Здесь под зюйдом моя регата
разбивала волну о киль,
это было тогда когда-то
и ушло за полтыщи миль.
И пришла, наконец, минута —
ноль в остатке, бывай, прощай,
только, все-таки, почему-то
я скажу тебе невзначай.
Где-то там намекни, явись мне
в страшном августе, в полусне,
раньше смерти, но выше жизни,
брось поживу моей блесне.
Золотою форелью первой
и последней, и здесь беда…
Бледной немочью, черной стервой
падай в Балтику навсегда.
Но не трогай стигматов алых,
все иное — пусто клочок,
ведь на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит зрачок.
ВТОРОЕ ОКТЯБРЯ
Открываю шторы —
Октября второе.
Рассветает. Что вы
Сделали со мною?
Темная измена,
Пылкая зарница?
«Оставайся, Женя», —
Шепчет заграница.
Был я семиклассник,
Был полузащитник,
Людям — однокашник,
Чепухи зачинщик.
Был я инженером,
Все мы — инженеры.
Стал я легковером
Самой тяжкой веры.
Фонари темнеют,
Душу вынимают,
Все они умеют,
Но не понимают.
ВЕСЬ ДЕНЬ ДОЖДЬ…
Целый день неуемный дождь над заливом,
Бьет с небес по лаврам, акациям, розам.
Чуть устанет и — с минутным перерывом —
начинает, усыпляет, как наркозом.
И приходится сидеть мне у веранды
и глядеть, как волны, точно мериносы,
всей отарой выбирают варианты:
сдать руно — как будто выплатить партвзносы.
Этот блок большевиков и беспартийных
мне понятен, и я сам оттуда родом,
только луж овальных, круглых, серповидных
стало больше, и глядят они болотом.
Что же делать? Надо, стало быть, сушиться,
Еще от автора Евгений Борисович Рейн
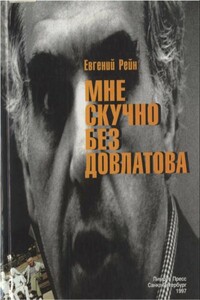
Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.