Избранное. Проблемы социологии - [6]
Итак, то, что мы соединяем некую сумму движений атомов и отдельных представлений в историю «индивида», уже неточно и субъективно. Если мы имеем право, как того хочет индивидуализм, считать подлинно объективным только то существование, которое в объективном смысле образует единство в себе и для себя, и если соединение таких единств в некое высшее образование есть лишь производимый человеком синтез, в противоположность которому задача науки состоит в возвращении путем анализа к тем первым единствам, то мы не можем также остановиться на человеческом индивиде, но должны и его рассматривать в качестве субъективного соединения элементов, тогда как предметом науки станут лишь его единообразные атомарные составляющие.
Насколько справедливо это требование в теории познания, настолько неосуществимо оно в познавательной практике. Вместо идеального знания, которое может дать историю каждой мельчайшей частицы мира, мы должны довольствоваться историей и закономерностью отдельных конгломератов, которые вычленяются согласно субъективным категориям нашего мышления из объективной совокупности бытия; упрек, который можно сделать в отношении такой практики, имеет силу и применительно ко всякому оперированию как с человеческим индивидом, так и с человеческим обществом. Вопрос о том, сколько реальных единств и какие из них следует соединить в одно высшее, но субъективное единство, судьбы которого должны составить предмет особой науки, есть лишь вопрос практики. Таким образом, после того, как мы раз и навсегда признали, что такое познание имеет только предварительное значение и исключительно морфологический характер, нам остается поставить вопрос о критерии подобного рода соединений и о том, насколько этому критерию удовлетворяет такое соединение, как общество.
Для меня несомненно, что существует только одно основание, которое придает сочленению в единство, по крайней мере, относительную объективность: это – взаимодействие частей. Мы называем каждый предмет единым постольку, поскольку его части находятся в динамических взаимоотношениях. Живое существо в особенности являет себя единым, ибо мы наблюдаем в нем самое энергичное воздействие каждой части на другую, тогда как связи частей в неорганическом природном образовании слишком слабы, чтобы по отделении одной части свойства и функции других оставались по существу неповрежденными. В пределах личной душевной жизни, несмотря на ранее указанную несогласованность ее содержаний, функциональная связь их является в высшей степени тесной; каждое представление, даже самое отдаленное или давным-давно прошедшее, может оказывать на другое такое сильное воздействие, что с этой точки зрения представление единства является в данном случае, конечно, наиболее оправданным – естественно, только в разной степени в разных случаях. В качестве регулятивного мирового принципа мы должны принять, что все находится со всем в каком-либо взаимодействии, что существуют силы и переходящие туда и обратно отношения между каждой точкой и каждой иной точкой мира; поэтому не может быть логического запрета на то, чтобы вычленить любые единицы и сомкнуть их в понятие одной сущности, природу и движения которой мы должны были бы устанавливать с точки зрения истории и законов. При этом решающим является лишь вопрос о том, какое соединение целесообразно с научной точки зрения и где взаимодействие между сущностями достаточно сильно, чтобы его изолированное рассмотрение в противоположность взаимодействию каждой такой сущности со всеми остальными могло обещать выдающееся по результатам объяснение, причем дело, в основном, состоит в том, является ли частой рассматриваемая комбинация, так чтобы познание ее могло быть типичным и могло указать если не закономерность – ее можно познать только в действиях простых частей, – то хотя бы регулярность. Разложение общественной души на сумму взаимодействий ее участников соответствует общему направлению современной духовной жизни: разложить постоянное, равное самому себе, субстанциальное на функции, силы, движения и постигнуть во всяком бытии исторический процесс его становления. Никто не будет отрицать, что взаимодействие частей происходит в том, что мы называем обществом. Общество, как и человеческий индивидуум, не представляет собой вполне замкнутой сущности или абсолютного единства. По отношению к реальным взаимодействиям частей оно является только вторичным, только результатом, причем и объективно, и для наблюдателя. Если мы здесь оставим в стороне морфологические явления, в которых отдельный человек оказывается, конечно, всецело продуктом своей социальной группы, и обратимся к последнему основанию теории познания, то нам придется сказать: здесь нет общественного единства, из единообразного характера которого вытекают свойства, отношения и изменения частей, но здесь обнаруживаются отношения и деятельности элементов, на основе которых только и может быть установлено единство. Эти элементы сами по себе не представляют настоящих единств; но их следует рассматривать как единства ради более высоких соединений, потому что каждый из них по отношению к другим действует единообразно; поэтому общество не обязательно слагается из взаимодействия одних только человеческих личностей: целые группы во взаимодействии с другими могут также образовать общество. Ведь и физический, и химический атом совсем не является простой сущностью в метафизическом смысле, но с абсолютной точки зрения может быть разлагаем все дальше; однако для наблюдателя, относящегося к данным наукам, это безразлично, потому что фактически он действует как единство; подобно этому и для социологического исследования важны, так сказать, лишь эмпирические атомы, представления, индивиды, группы, которые действуют как единства, все равно, делимы ли они в себе все дальше и дальше. В этом смысле, который является с обеих сторон относительным, можно сказать, что общество есть единство, состоящее из единств. Однако речь не идет при этом о внутреннем замкнутом народном единстве, которое порождало бы право, нравы, религию, язык; напротив, социальные единства, соприкасающиеся внешним образом, образуют внутри себя под действием целесообразности, нужды и силы эти содержания и формы, и это только вызывает или скорее обозначает их объединение. Поэтому и в познании нельзя начинать с такого понятия об обществе, из определенности которого вытекали бы отношения и взаимные действия составных частей; эти последние необходимо устанавливать, а общество – только название для суммы этих взаимодействий, которое будет применимо лишь постольку, поскольку они установлены. Поэтому понятие не фиксировано как нечто единое, но имеет различные степени, причем оно может быть применимо в большей или меньшей мере, смотря по количеству и глубине существующих между данными личностями взаимодействий. Таким образом, понятие общества совершенно теряет тот мистический оттенок, который пытался усмотреть в нем индивидуалистический реализм.
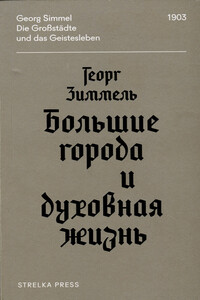
Именно Георг Зиммель превратил социологию в "науку о сегодня" и сделал фактом науки об обществе внутреннюю жизнь человека: его интересовал дух времени, и он пытался описать его, рассматривая повседневное человеческое существование. Он был первым социологом, который стал думать о потреблении и деньгах, о моде и туризме, о любовных переживаниях и восприятии времени - и о большом городе, ставшем для Зиммеля квинтэссенцией современной жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
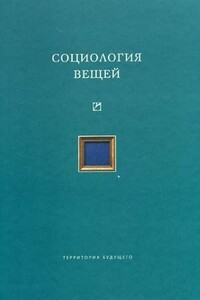
Настоящий сборник посвящен проблематике соотнесения «социального» и «материального» в социологической теории. Авторы постарались проследить историю концептуализации материального объекта в социальном теоретизировании, отобрав принципиально разнородные способы представления материальности средствами социологического воображения.
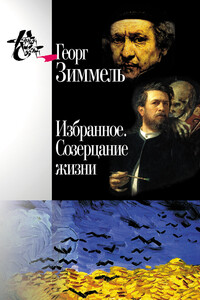
Георг Зиммель (1858–1918) – немецкий философ, социолог, культуролог, один из главных представителей «философии жизни». Идеи Зиммеля оказали воздействие на современную антропологию, культурологию, философию. В том вошли труды и эссе «Созерцание жизни», «Проблема судьбы», «Индивид и свобода», «Фрагмент о любви», «Приключение», «Мода», работы по философии культуры – «Понятие и трагедия культуры», «О сущности культуры», «Изменение форм культуры», «Кризис культуры», «Конфликт современной культуры» и др. Книга рассчитана на философов, культурологов, социологов.
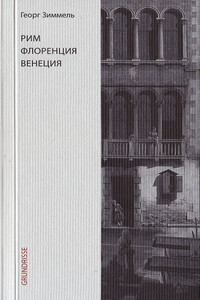
«Искусство только тогда совершенно и лишено искусственности, когда оно – больше чем искусство. Такова Флоренция, где душа ощущает поразительную однозначность и надёжность родины. Венеция же обладает двуликой красотой приключения, плавающего без корней в водах жизни, словно оторванный цветок в море, а то, что она была и остаётся классическим городом рыцарского поединка, лишь подтверждает её главное предназначение: быть для нашей души не родиной, но приключением…» Георг Зиммель В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
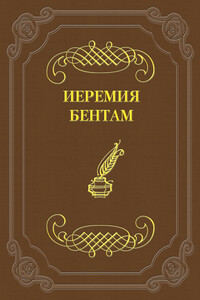
Тактика законодательных собраний Иеремии Бентама – классическое сочинение, ставшее в культурных странах начальным учебником и настольным руководством к действию для государственных деятелей. Идеи Бентама в настоящее время почти всецело воплощены в жизнь цивилизованных народов, и английские порядки, изложенные в «Тактике», легли в основу программных документов всех парламентов мира; но он писал в то время, когда парламентское устройство, и притом весьма несовершенное, существовало лишь в Англии и только зарождалось во Франции.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
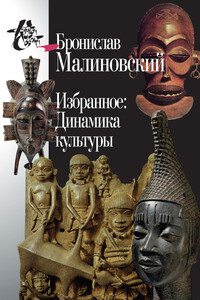
В том вошли следующие работы одного из основателей функциональной школы в английской антропологии: «Динамика культурных изменений», «Преступление и обычай в обществе дикарей», «Миф в первобытной психологии» и др. Малиновский противостоял эволюционистским и диффузионистским теориям культуры, выступал против рассмотрения отдельных аспектов культуры в отрыве от культурного контекста. Культуру он понимал как целостную, интегрированную, согласованную систему, все элементы которой тесно связаны друг с другом.
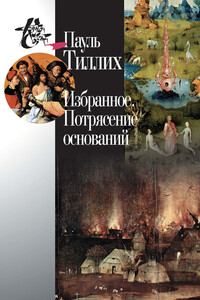
Пауль Тиллих (1885–1965) – немецко-американский христианский мыслитель, теолог, философ культуры. Главные проблемы творчества Тиллиха – христианство и культура, место христианства в современной культуре и духовном опыте человека, судьбы европейского человечества в свете евангельской Благой Вести. Эти проблемы рассматриваются в терминах онтологии и антропологии, культурологии и философии истории, христологии и библейской герменевтики. К богословию, или теологии культуры, Тиллих обращается во всех своих работах – от первого публичного выступления в Берлинском кантовском обществе в 1919 г.
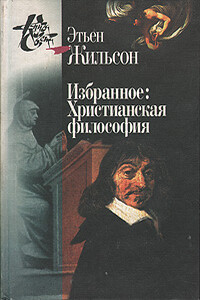
Этьен Жильсон (1884–1978) — один из виднейших религиозных философов современного Запада, ведущий представитель неотомизма. Среди обширного творческого наследия Жильсона существенное место занимают исследования по истории европейской философии, в которых скрупулезный анализ творчества мыслителей прошлого сочетается со служением томизму как величайшей философской доктрине христианства и с выяснением вклада св. Фомы в последующее движение европейской мысли. Интеллектуальную и духовную культуру «вечной философии» Жильсон стремится ввести в умственный обиход новейшего времени, демонстрируя ее при анализе животрепещущих вопросов современности.
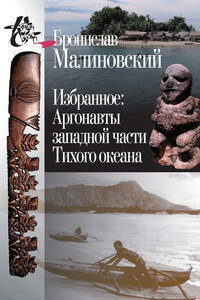
Б. Малиновский (1884–1942) – английский этнограф и социолог польского происхождения, один из основателей и лидеров функциональной школы в английской социальной антропологии. В настоящей работе Малиновский сосредоточен на этнографической деятельности тробрианских островитян; но со свойственной ему широтой взглядов и тонкостью восприятия пытается показать, что обмен ценностями обитателей Тробрианских и других островов ни в коей мере не является чисто коммерческой деятельностью; он показывает, что обмен удовлетворяет эмоциональные и эстетические потребности.