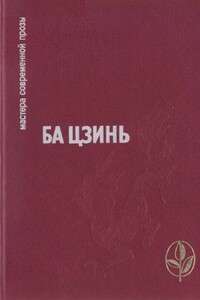Избранное - [202]
И так переходил я от одного королевского двора к другому, нимало не заботясь, для кого предприму свое плаванье. Мне нужны были корабли, кто б мне их ни предоставил. Прочные корабли, большой вместимости, с кормчими цепкой хватки и матросами крепкой силы — пусть они хоть беглые каторжники, мне в данном случае все равно. Попа не возьму. Достаточно, если я доплыву туда — это будет уже подвиг! — не связывая себя обязанностью наставлять в вере и разводить разную теологию и не интересуясь, есть ли у тех уродцев какая-нибудь варварская религия, каковую трудно искоренить и каковая потребовала бы деяний мужей ученых, понаторевших в проповеданье язычникам и обращении идолопоклонников. Первое — пересечь Море-Океан, а потом уж явятся Евангелия, ибо они бродят сами по себе. Что же касается славы, завоеванной моим подвигом, то мне все едино, увенчается ли ею пред всем светом одно или другое королевство, только б проистекли из того должные мне почести и участие в обретенных выгодах. По той же причине я обзавелся шатром чудес, какие были в ходу у певцов-голиардов на ярмарках Италии. Я ставил мои подмостки перед герцогами и наследными принцами, богатеями, монахами и испанскими грандами, клириками и банкирами, знатью отсюда, знатью оттуда, я навешивал занавес слов и тотчас выводил на сцену в ослепительном шествии карнавальные фигуры: Золото, Бриллиант, Жемчуг и в особенности образы Пряностей. Донья Корица, Дон Мускат, Дон Перец и Дон Кардамон выходили об руку с Доном Сапфиром, Доном Топазом, Доном Изумрудом и Доньей Чисто-Серебро, а за ними следовали Дон Имбирь и Донья Гвоздика дель Бутон под звуки торжественного марша в тоне шафрана и ароматов Магабарского берега, в котором звенели, с певучей своей гармонией, имена Сипанго, Катая, Золотой Колхиды и всех Индий, которых, как известно, несколько — Индий изобильных, плодотворящих, пряностных и приправных, неисследованных, но глядящих в нашу сторону, желающих протянуть к нам руки, укрыться под наши законы, Индий близких — более близких, чем мы думаем, хоть еще представляются нам далекими, — которых мы сможем теперь достичь по просторному пути, плывя по Левую Руку всех карт, презрев опасную дорогу по Правую Руку, кишащую до сих пор магометанскими пиратами, корсарами-одиночками, плавающими под тростниковым парусом, и это если не идти по суше, подвергаясь чудовищным поборам, ограниченьям перевозок, праву печати мер и весов, установленных на территориях под владычеством Великого Турка… Рука Левая, Рука Правая. Я вскидывал их, показывал, двигал ими с искусством хугляра, с изяществом ювелира или, впав в торжественность, вздевал их, глася словом Исайи, взывая словом Псалмов, зажигая огни иерусалимские, я возвеличивал их предплечья разлетом рукавов, указуя на невидимое, тыча в неведомое, вороша огромные богатства, взвешивая сокровища, обильные подобно воображаемым жемчугам, какие, казалось, уже струятся у меня меж пальцев, упадая на землю и расцвечивая восточными блестками ее амарантовый ковер. Знатные и ученые люди рукоплескали мне, восторгались моими космогоническими откровениями, увлекались на миг посулами мечтателя-ювелира, алхимика без реторт, но под конец оставляли меня ждать у моря — вернее было бы сказать: у моря погоды — без кораблей и без надежд… И так носило меня туда-сюда долгие годы, с моим карнавальным шатром, и не вершилось, чтоб слово Сенеки стало плотью, во плоти явленное тем, кто простерт здесь сейчас, в поту и в ознобе, ослабелый телом, ожидая францисканца-исповедника, чтоб сказать все… все…
…И я скажу ему, что, пока я ждал, когда же исполнится моя мечта и я смогу осуществить самое сказочное предприятие — самое пагубное предприятие для меня, как оказалось, — о каком когда-либо слышал свет, я, находясь в Лиссабоне, подумал, подобно поэту, что «мир трудится для двух вещей»: первая — «чтоб плоть свою питать» и вторая — «чтоб с женщиной приятною водиться». Я встретил Фелипу и стал ухаживать за нею как истый кабальеро. Хотя молода лицом и стройна телом, была она вдова с малыми средствами и дочерью на руках. Но я не придал значения этому обстоятельству, памятуя, что была она из хорошего рода, и я повел ее к алтарю в ту же церковь, где увидел впервые усердно молящейся, принимая в расчет, что, будучи к тому ж «женщиной приятною», состояла она в родстве с известной фамилией Браганса, и это родство было открытою дверью — много дверей открыла передо мною эта моя женитьба, — чтоб попасть к португальскому двору и раскинуть там мой волшебный шатер. Но тут начались трудные годы ожидания, ибо все оборачивалось ожиданием в годы, последовавшие затем: во-первых, на острове Порто-Санто, куда я с моей Фелипой переехал на житье и где, несмотря на любезное присутствие той, что была — снова приведу слова поэта — «в любови нравной, на ложе радостной, утешной и забавной», я сгорал от нетерпения пред множественностью Примет, которые заставляли меня слишком часто думать о том, что скрыто за ежедневно созерцаемым горизонтом. К берегам острова приставали гигантские стволы, неизвестные в Землях Европы; растения странных очертаний, с тройчатыми листьями, словно упавшие с какой-то звезды. Однажды мне рассказали о куске дерева, что выбросила волна, выделанном неведомым способом, словно людьми, которые, не зная наших орудий, использовали огонь, чтоб добиться того, для чего у нас есть пила и струг; говорили также как о важном событии о находке, сделанной несколько лет назад: двух трупах людей «с очень широкими лицами» и необычным сложением — хотя последнее мне показалось неправдоподобным, ибо трудно представить, что эти тела приплыли так издалёка, не обращенные в скелеты многими рыбами, прожорливыми и голодными, какие живут в Океане, где если неисчислимы твари известные, то несчетны неизвестные и чудные — есть такие, что с головой единорога, есть такие, что извергают струи воды из пасти, — такие чудные, как эта гигантская водяная змея, дочь чудовища Левиафана, по морю приплывшая от азиатской Галатии до берегов реки Родан, обвиваясь вкруг всех кораблей, какие встречала на пути, с такою силой, что проламывала их ребра и потопляла их вместе с командой и грузом… Я не стану входить в подробности относительно отдельных моих дел и плаваний меньшей важности, какие я предпринял в те годы, когда у меня родился сынок, которому я дал имя Диего. Но как только я овдовел — и стал, значит, свободным от пут, несколько сдерживающих мое нетерпение, — огонь моего честолюбия вспыхнул снова, и я решил искать помощи где угодно; и пора уже было, ибо португальские мореплаватели становились все дерзновенней в своих открытиях, и не был напрасным страх при мысли, что, раз уж столько глядели они на Юг и Восток, придет им как-нибудь в голову поглядеть на Запад, чьи пути считал я законной своею вотчиной, с тех пор как Боцман Якоб разжег во мне страсть к приключениям. Любое доходившее до меня известие о плаваниях португальцев будоражило мне душу. Ночью ли, днем ли, жил я в страхе, что у меня похитят море — мое море, — подобно тому как дрожал перед воображаемыми ворами скупой из римской сатиры. Этот Океан, на который взирал я с крутых берегов Порто-Санто, был моею собственностью, и каждая промелькнувшая неделя увеличивала опасность, что его у меня похитят. И я угрызал себе душу, и грыз ногти, и скреб в ярости борта кораблей компании Чентурионе и Ди Негро — теперь объединившихся, — которые держали меня на торговле каким-то сахаром, на обыденных мелких перевозках, когда я плавал от острова Мадейра до Золотого Берега, от острова Флорес до Генуи, и снова к Азорским островам, и снова в сторону от Генуи, закупая, увозя, привозя, продавая и перепродавая товары, в то время как ощущал в себе силы подарить миру новый образ того, чем он был сейчас, — истинный образ мира, Imago Mundi! Speculum Mundi! Один я, безвестный моряк, выросший средь сыров и вин портовой таверны, знал подлинную меру этих слов. Потому-то пришел час поспешать. Карты, тексты ничего нового уж не могли поведать мне. И поскольку нуждался я в помощи королей, чтоб подступить к моему замыслу, я решился искать ее упорно, всюду, где только возможно. Не очень было мне важно в конечном счете, какая нация обретет чрез эту помощь мне величайшую славу и бесчисленные богатства. Я не был ни португальцем, ни испанцем, ни англичанином, ни французом. Я был генуэзец, а мы, генуэзцы, — народ отовсюду. Мне надлежало побывать при всех, каких только возможно, королевских дворах, не заботясь о том, кого возвеличит мой успех и будет ли покровительственная корона враждебна другой или третьей. Поэтому я снова собрал мой Театр Чудес и отправился с ним в новое странствие по Континенту. Сначала я показал его в Португалии, где нашел короля, слишком пресыщенного космографиями, теологиями, лоциями, слишком доверившегося своим мореходам, что уж брюшко отрастили, и который в конце концов передал меня под полномочие докторов, географов, канонистов и глупца епископа Сеуты — словно Сеута это древняя Антиохия! — и еще магистров Родригеса и Жозефа, тупых и невежественных, как были в утробе матери, которые принялись утверждать, что мои речи — сплошная путаница и неразбериха, старая песня на новый лад, петая и перепетая Марко Поло — великий венецианец, я читал его книгу с восхищением, но вовсе не намеревался идти по его следам, ибо целью моею было как раз добиться того, чтоб, плывя по солнцу, достичь областей, каких достиг он, идя против солнца. Если его след прочертил одно полукружие на Земле, мне предназначено было прочертить второе. Но я знал — и знал твердо, — что недостающий кусок, чтоб замкнуть окружность, был тот, что принадлежал Нации Уродцев… Так что я сложил свой шатер и, разочаровавшись в Португалии, снова раскинул его в Кордове, где Их Католические Величества отнеслись к моему спектаклю весьма сдержанно. Арагонец показался мне придурком, рохлей и бесхарактерным, под началом жены, которая во время данной мне аудиенции слушала мои слова со снисходительной рассеянностью, словно думая о другом. И я вынес оттуда лишь тощее обещание, что здешние ученые — вечно одна и та же история! — рассмотрят мое предложение, ибо в настоящее время важные государственные дела и большие военные расходы, которые… и прочая, и прочая — пустые отговорки властительницы, весьма довольной собою, старающейся показать себя начитанной, которая, по ее утверждению, «чувствовала себя глупой», бедняжка, «когда приходилось состязаться с толедскими теологами», — фальшивое смирение людей, притворно признающих, что знают не все, а про себя думающих, что знают все. Я вышел оттуда в бешенстве не только от досады на подобный прием, но и потому, что пуще всего не любил иметь дело с бабами иначе как в постели, и было совершенно очевидно, что при этом дворе кто начальствовал в действительности — была баба… Но поскольку без бабы — хоть и для другого — не может существовать мужчина, то как раз в то время стал я жить с пригожей бискайской девушкой, которая подарила мне второго сына. О женитьбе мы не говорили, и я этого не хотел, поскольку та, что спала теперь со мною, не находилась в родстве ни со знаменитыми Браганса, ни со столь же знаменитыми Мединасели, причем приходится признать, что, когда я увел ее к реке в первый раз и думал я, она невинна, легко было убедиться, что до меня она была жена другого. Что мне не помешало, честно говоря, мчаться по лучшей в мире дороге и на кобылке из перламутра, забыв про узду и стремя, покуда мой брат Бартоломе готовился раскинуть мой шатер в Англии, пред троном первого Тюдора, носившего это имя. Но вскоре он убедился, что и там не будет блестящего приема, ибо дерьмовые эти англичане ничего не смыслят в морском деле — до сих пор не способны добыть себе горсть корицы или мешочек перцу ни в каком другом месте, кроме лавки торговца пряностями. Я стал думать тогда о короле Франции, таком богатее, каких еще баба не рожала, с тех пор как заполучил через выгодную женитьбу герцогство Бретань. Но для бретонцев герцогини Анны киты и сельди, спермацет и рассол были ценностями более прочными, чем Золото Индий, и там я тоже не добился порядочного приема… Но, несмотря на провалы и разочарования, учился я придавать себе весу. Понимая, что выслушивают как должно лишь того, кто идет напролом, надменен с привратниками, нетерпелив в приемных, сыплет званьями и почестями, каких достиг, я обзавелся своей мифологией, призванной заставить всех забыть про таверну в Савоне — во славу моих отца с матерью! — с хозяином, ткачом и сыроваром, прилипшим к своим винным бочкам и каждодневно вступающим в стычки с пьянчугами-неплательщиками. Внезапно я извлек из кармана дядю-адмирала, присвоил себе степень бакалавра университета Павии, на чей порог ни разу не ступил за всю мою распрекрасную жизнь; я заделался другом — в глаза его не видев — короля Рене Анжуйского и любимым кормчим прославленного Колонны Младшего. Я становился большим человеком и в качестве такового вел теперь мою интригу с большей фортуною, чем раньше: посредством сплетен, распускания слухов, фраз, брошенных вскользь, секретничанья, остроумничанья, признаний с требованием клятвенного обещанья, что это не пойдет дальше, писем, читаемых с умолчаниями, фальшивых намеков на скорый отъезд по срочному призыву других королевских дворов, я дал понять обиняком арагонцу и кастильянке — с помощью одного медика и астролога, большего проныры, чем сам Вельзевул, и которого мне посчастливилось убедить, что из-за глупого недоверия одних и глупой слепоты других для их королевства сейчас под угрозой провала сказочное предприятие, гигантские доходы от которого уже провидят другие суверены, лучше там, у себя, ориентированные… И отсюда проистекло, что по королевскому распоряжению меня неожиданно одарили гнедым мулом, в красивой упряжи, чтоб я рысцой, рысцой, не особенно запылив единственное приличное платье, какое у меня было, отправился в огромный лагерь Санта-Фе, большой военный караван-сарай, превращенный в город и королевский двор присутствием Их Высочеств, откуда, среди палаток из пышных ковров и палаток из латаных одеял, огней бивуаков, повозок под навесом, уставленных кувшинами, бурдюков с густо-красным вином на спинах осликов, постаныванья гитар и пляски гетер на танцевальном помосте, зова труб и стрекота кастаньет будут уходить войска, которые, нарушив рубежи долгой осады, возьмут завершающим приступом последний оплот Магомета на этой земле, где — повторю слишком известную истину — хватало ренегатов всех сортов (агарянки, от матерей до дочерей, совокуплялись с христианами), слабых известно на что, как был король Альфонсо Шестой, кто, прежде чем блудить со своей сестрою доньей Урракой — что за семьи, господи! — имел наложницей, и долгое время, знаменитую Зайду, севильскую мавританку из тех, чьи бедра щедро круты, груди высоки и тело пахнет толедским марципаном, какой продают в форме Райского Змия, клубком в круглой коробочке, в сплошь золотой чешуе, с зелеными леденцовыми глазами и красным пряничным языком.
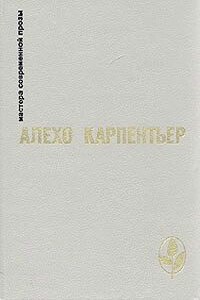
Роман «Царство земное» рассказывает о революции на Гаити в конце 18-го – начале 19 века и мифологической стихии, присущей сознанию негров. В нем Карпентьер открывает «чудесную реальность» Латинской Америки, подлинный мир народной жизни, где чудо порождается на каждом шагу мифологизированным сознанием народа. И эта народная фантастика, хранящая тепло родового бытия, красоту и гармонию народного идеала, противостоит вымороченному и бесплодному «чуду», порожденному сознанием, бегущим в иррациональный хаос.

Сборник включает в себя наиболее значительные рассказы кубинских писателей XX века. В них показаны тяжелое прошлое, героическая революционная борьба нескольких поколений кубинцев за свое социальное и национальное освобождение, сегодняшний день республики.
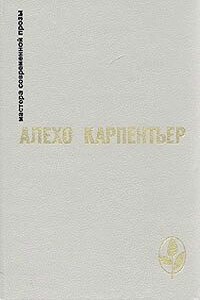
В романе «Век Просвещения» грохот времени отдается стуком дверного молотка в дом, где в Гаване конца XVIII в., в век Просвещения, живут трое молодых людей: Эстебан, София и Карлос; это настойчивый зов времени пробуждает их и вводит в жестокую реальность Великой Перемены, наступающей в мире. Перед нами снова Театр Истории, снова перед нами события времен Великой французской революции…

В романе «Превратности метода» выдающийся кубинский писатель Алехо Карпентьер (1904−1980) сатирически отражает многие события жизни Латинской Америки последних десятилетий двадцатого века.Двадцатидвухлетнего журналиста Алехо Карпентьера Бальмонта, обвиненного в причастности к «коммунистическому заговору» 9 июля 1927 года реакционная диктатура генерала Мачадо господствовавшая тогда на Кубе, арестовала и бросила в тюрьму. И в ту пору, конечно, никому — в том числе, вероятно, и самому Алехо — не приходила мысль на ум, что именно в камере гаванской тюрьмы Прадо «родится» романист, который впоследствии своими произведениями завоюет мировую славу.

Сборник посвящается 30–летию Революционных вооруженных сил Республики Куба. В него входят повести, рассказы, стихи современных кубинских писателей, в которых прослеживается боевой путь защитников острова Свободы.
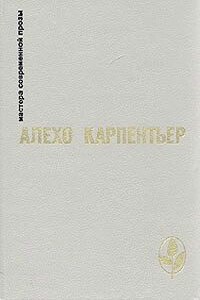
Повесть «Концерт барокко» — одно из самых блистательных произведений Карпентьера, обобщающее новое видение истории и новое ощущение времени. Название произведения составлено из основных понятий карпентьеровской теории: концерт — это музыкально-театральное действо на сюжет Истории; барокко — это, как говорил Карпентьер, «способ преобразования материи», то есть форма реализации и художественного воплощения Истории. Герои являются символами-масками культур (Хозяин — Мексика, Слуга, негр Филомено, — Куба), а их путешествие из Мексики через Гавану в Европу воплощает развитие во времени человеческой культуры, увиденной с «американской» и теперь уже универсальной точки зрения.

Германия, 1939 год. Тринадцатилетняя Магда опустошена: лучшую подругу Лотту отправили в концентрационный лагерь, навсегда разлучив с ней. И когда нацисты приходят к власти, Магда понимает: она не такая, как другие девушки в ее деревне. Она ненавидит фанатичные новые правила гитлерюгенда, поэтому тайно присоединяется к движению «Белая роза», чтобы бороться против деспотичного, пугающего мира вокруг. Но когда пилот английских ВВС приземляется в поле недалеко от дома Магды, она оказывается перед невозможным выбором: позаботиться о безопасности своей семьи или спасти незнакомца и изменить ситуацию на войне.
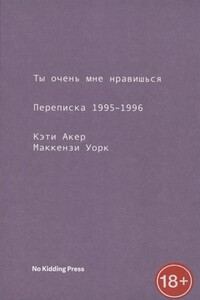
Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.

Сухум. Тысяча девятьсот девяносто пятый год. Тринадцать месяцев войны, окончившейся судьбоносной для нации победой, оставили заметный отпечаток на этом городе. Исторически желанный вождями и императорами город еще не отошел от запаха дыма, но слово «разруха» с ним не увязывалось. Он походил на героя-освободителя военных лет. Окруженный темным морем и белыми горами город переходил к новой жизни. Как солдат, вернувшийся с войны, подыскивал себе другой род деятельности.

Когда пожилой Мюррей Блэр приглашает сына и дочерей к себе на ферму в Нью-Гэмпшир, он очень надеется, что семья проведет выходные в мире и согласии. Но, как обычно, дочь Лиззи срывает все планы: она опаздывает и появляется с неожиданной новостью и потрепанной семейной реликвией — книгой рецептов Фанни Фармер. Старое издание поваренной книги с заметками на полях хранит секреты их давно умершей матери. В рукописных строчках спрятана подсказка; возможно, она поможет детям узнать тайну, которую они давно и безуспешно пытались раскрыть. В 2019 году Элизабет Хайд с романом «Спросите Фанни» стала победителем Книжной премии Колорадо в номинации «Художественная литература».

«У крутого обрыва, на самой вершине Орлиной Скалы, стоял одиноко и неподвижно, как орёл, какой-то человек. Люди из лагеря заметили его, но никто не наблюдал за ним. Все со страхом отворачивали глаза, так как скала, возвышавшаяся над равниной, была головокружительной высоты. Неподвижно, как привидение, стоял молодой воин, а над ним клубились тучи. Это был Татокала – Антилопа. Он постился (голодал и молился) и ждал знака Великой Тайны. Это был первый шаг на жизненном пути молодого честолюбивого Лакота, жаждавшего военных подвигов и славы…».

Овдовевшая молодая женщина с дочерью приезжает в Мемфис, где вырос ее покойный муж, в надежде построить здесь новую жизнь. Но члены религиозной общины принимают новенькую в штыки. Она совсем не похожа на них – манерой одеваться, независимостью, привычкой задавать неудобные вопросы. Зеленоглазая блондинка взрывает замкнутую среду общины, обнажает ее силу и слабость как обособленного социума, а также противоречия традиционного порядка. Она заставляет задуматься о границах своего и чужого, о связи прошлого и будущего.
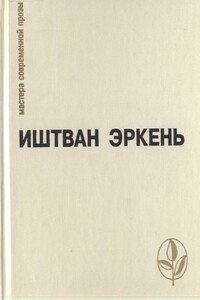
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.
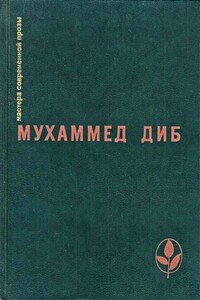
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.
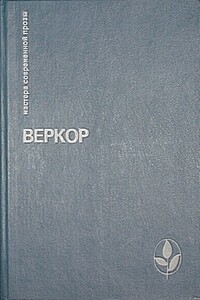
Веркор (настоящее имя Жан Брюллер) — знаменитый французский писатель. Его подпольно изданная повесть «Молчание моря» (1942) стала первым словом литературы французского Сопротивления.Jean Vercors. Le silence de la mer. 1942.Перевод с французского Н. Столяровой и Н. ИпполитовойРедактор О. ТельноваВеркор. Издательство «Радуга». Москва. 1990. (Серия «Мастера современной прозы»).