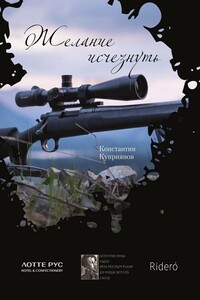Избранное - [42]
— Вот и пойми тут, — покачивая головой, сказал Мицкевич Давиду, который шел рядом с ним. Давид рассмеялся.
— Самое смешное в этом, — ответил он, — что старик читает и любит нашего Беранже.
— Не будь Беранже французом, он бы его к себе и на порог не пустил, — вмешался Холтей.
Соре замотал головой.
— Гений всегда в душе республиканец.
— Уж не хотите ли вы сказать, что его превосходительство не гений? — спросил Холтей в судорожном усилии казаться веселым.
Соре, и без того не слишком жаловавший Холтея, парировал:
— Дело не в словах.
— Господа, вы, верно, просто проголодались, — вмешался Давид. — Назовите его превосходительство умеренно-прохладным республиканцем — не ошибетесь.
Соре бросил на Мицкевича взгляд, в котором читалась растерянность, но Мицкевич ответил улыбкой.
— Какой сфинкс! — воскликнул он. — Какие загадки он нам подсовывает! Что прикажете думать нам, людям, так сказать, проезжим, когда даже вы, местные, не можете прийти ни к какому решению?
Сказал он это в шутку, но день спустя, когда нервозность праздника уступила место обычному ходу буден и Мицкевич, приняв приглашение Людена, сидел в комнате последнего, где оба вели с пятого на десятое разговор о Гете, ему снова пришлось вернуться к этой мысли.
— Я покидаю Веймар со смешанными чувствами, — сказал он. — С одной стороны, я вообще жалею, что сюда приехал, с другой — ни за что на свете не захотел бы лишиться этих впечатлений. Может, я сохраню их дольше, чем это нужно для моего блага. Даже просто свести свои впечатления воедино мне и то будет нелегко.
— Тогда просто подвергайтесь воздействию и не заботьтесь о том, чтобы давать себе отчет, — посоветовал Люден, чье лицо, простодушное и приветливое, казалось вырезанным из картины какого-нибудь старого голландского мастера.
— Чего не могу, того не могу, — сказал Мицкевич. — К тому же это было бы противно моей натуре. Отделять жизнь от творчества, на мой взгляд, грешно. Я должен обладать верой. Больше всего меня смущает в Гете его неверие, его цинический скептицизм в отношении к миру. — И далее Мицкевич рассказал о той раздвоенности, которая возникла у него после вчерашнего посещения театра, где давали «Фауста». Восхищение — разумеется! Кого не тронет глубина и красота произведения, у кого не исторгнет слез трагедия бедной Гретхен?! Но не торжествует ли, в конечном итоге, холодный разум, воплощенный в образе Мефистофеля, причем у Мицкевича весь вечер не шла из головы мысль — не есть ли этот образ alter ego[14] самого Гете?
Люден коротко улыбнулся.
— Делая выводы, не руководствуетесь ли вы одной только сумятицей ваших веймарских впечатлений, пренебрегая до некоторой степени самим произведением?
Мицкевич пожал плечами.
— Это едва ли возможно. Или, чтобы выразить свою мысль с предельной простотой: я содрогнулся при виде того ледяного равнодушия, с каким высмеивают и расчленяют возвышенное. Даже если я приму в расчет одиночество Гете, о котором здесь так часто толкуют посвященные…
Люден перебил его.
— Одиночество! — воскликнул он. — Выдумка чистой воды! Для того чтобы прикрыть словами немецкое убожество, не щадящее, к сожалению, даже великого Гете. Люди куда как скоры выдвигать одиночество, если нужно чему-либо подыскать оправдание.
Мицкевич удивленно поднял брови.
— Вы и в самом деле так думаете? — спросил он.
Жесткая складка легла у мягких обычно губ Людена. Он встал с кресел и принялся расхаживать по комнате.
— Как же иначе? — начал он. — Знаете, господин Мицкевич, у нас образованные люди давно уже перестали замечать, как непрезентабельно они выглядят с их болтовней и делишками. Они, пожалуй, и сами давно смекнули, в чем их беда, иначе не ходили бы вокруг да около. Свою лепту вносит, конечно, и суета вокруг имени Гете, причем тут уже не играет роли, хулят они его или превозносят. И то и другое одинаково глупо. Ежели вы желаете получить проблему Гете в ее истинном виде, вам следует переместить ее с эстетических небес на политическую почву.
Мицкевич также поднялся с места. Поскольку Люден умолк и принялся набивать свою трубку, он сказал:
— Продолжайте же, господин профессор. Хотя вы и добавляете новые сомнения к моим старым.
Люден подошел к нему и, смеясь, похлопал его по плечу.
— Это меня удивляет, — сказал он. — Я бы скорее предположил, что снимаю с вас груз сомнений. А что до Гете, то его деятельность этим не умаляется, она по-прежнему остается детищем гиганта, пусть он даже обуздывал себя в тех случаях, когда внешние последствия представлялись ему слишком радикальными. Одиночество? Измышление филистеров! Боязнь — почти паническая боязнь собственной смелости! Каких только дверей не открыл этот человек, какие только замки не срывал! А наша глубочайшая язва! Разве он испытывал от нее меньшую боль, чем другие? Да напротив! И даже более того: Гец и Эгмонт! И сверх всего — его неотразимо зажигательный Эпиметей?! Как вы полагаете? Ужели он не мог угадать великую возможность, способную перевернуть страницу нашей истории, и возвысить свой голос вместе с теми, кто единственно составлял ее движущую силу? Разумеется, мог — и, разумеется, угадал, — такой ум не проведешь. Но тут выступает на сцену наше убожество, но тут он начинает ощущать на своем теле возлюбленно-ненавистный корсет старых предрассудков и ограничений жизни в спертом воздухе провинциального двора — и не может перешагнуть через это; он скребет у себя в затылке и начинает веровать в благодетельность реформ сверху, в прожекты, рецепты и в идеалы «педагогической провинции» — о боже, какая детская надежда, какая наивная вера во взрывную силу трактатов! И разумеется: еще и еще раз Эпиметей! Утопия! Великая личность, отдельно взятая, все свершит сама! Корсиканец! Сколь фантастическая надежда! Ураган, который налетает внезапно и срывает с крыш трухлявые слеги! — Люден глубоко вздохнул, он сам привел себя в возбуждение, но не смог выдержать накала. Далее он продолжал тоном ниже: — Но ваш брат это едва ли поймет, а мы можем объяснять это только ссылками на затхлое прошлое: это самоуничижение — когда узурпатора приемлют как благо лишь потому, что страдают отсутствием доверия к народу, который воспринимается как некая аморфная масса в руках малых и больших господ и, следовательно, не берется в расчет. Надрываться в рудниках и поливать ниву своим потом — о да, пожалуйста, но ведь возвышенное не обязательно гибнет от соприкосновения с полезностью! И снова реформы, дабы червь — боже упаси — не стал гидрой, как в тысяча семьсот восемьдесят девятом, во Франции! Если бы все дело свелось к Дидро и Руссо, тогда вмешательство на высшем уровне себя оправдало бы, но — увы! — не свелось, и на улицах Парижа вокруг виселиц, вокруг гильотины распевали «К оружию, граждане!». И тогда прекращается цивилизация, и тогда на карту поставлены судьбы мировой культуры, и тогда уже никак нельзя согласовать происходящее с упорядоченными сферами космоса.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
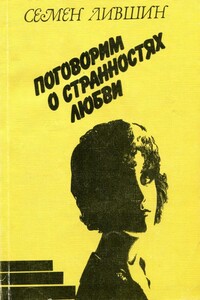
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
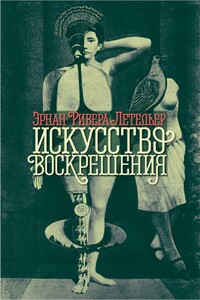
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.

Вилли Бредель — известный немецкий писатель нашего столетия, один из зачинателей литературы Германской Демократической Республики — являет редкостный пример единства жизненного и творческого пути.

Луи Фюрнберг (1909—1957) и Стефан Хермлин (род. в 1915 г.) — известные писатели ГДР, оба они — революционные поэты, талантливые прозаики, эссеисты.В сборник включены лирические стихи, отрывки из поэм, рассказы и эссе обоих писателей. Том входит в «Библиотеку литературы ГДР». Большая часть произведений издается на русском языке впервые.

Книге «Война» принадлежит значительное место в истории европейской литературы. Она вышла в свет в 1928 году, имела огромный успех и сделала широко известным имя ее автора Людвига Ренна (1889–1979), одного из наиболее интересных писателей в немецкой литературе XX века.«Война» — это рассказ героя о первой мировой войне, начиная с первого дня мобилизации и до возвращения на родину побежденной немецкой армии.

В этом томе собраны повести и рассказы 23 писателей ГДР старшего поколения, стоящих у истоков литературы ГДР и утвердивших себя не только в немецкой, во и в мировой литературе.Центральным мотивом многих рассказов является антифашистская, антивоенная тема. В них предстает Германия фашистской поры, опозоренная гитлеровскими преступлениями. На фоне кровавой истории «третьего рейха», на фоне непрекращающейся борьбы оживают судьбы лучших сыновей и дочерей немецкого народа. Другая тема — отражение сегодняшней действительности ГДР, приобщение миллионов к трудовому ритму Республики, ее делам и планам, кровная связь героев с жизнью государства, впервые в немецкой истории строящего социализм.