Избранное - [78]
Стало так тихо — муха пролетит, слышно. Муха и в самом деле влетела, покружила и уселась на лоб покойника; была она огромная, с зеленым блестящим брюшком.
— Ну и мужики!.. Сродственники!.. Ха-ха-ха!
— Ты к нам, Лодовика, не вяжись! Оставь нас в покое! — вступились за своих мужиков бабы, стервенея.
— Ну раз мужиков ни одного не нашлось, я и сама справлюсь! — крикнула Лодовика и сунула Шуте под нос кулак.
— Убирайся!
— Иди отсюда, покуда цел!..
Вскочила и Тодорика. Платок съехал у нее с головы, упал на пол, открылись седые старушечьи космы.
— Я все молчала, все думала, хоть один найдется, хоть один вступится. Заткнет рот этому полоумному бездельнику. Нету мужиков! Неужто все мужики перевелись на свете?! Некому взять его за шкирку да вышвырнуть вон со двора! Чтоб он и дорогу сюда забыл! Чтоб костей не собрал! Ну, ладно же, я и сама за себя постою!..
Она кинулась к Шуте, но Илие перехватил ее, отвел в сторону.
— Дайте мне, дайте, плюну в рожу ему! Отойдите, пропустите! — смачно плюнула на него Лодовика, как умеют плевать только крестьянки.
— Что, правда глаза колет? Боитесь правды-то?
— Замолчи ты, кривая кочерга! Сиди себе помалкивай! Тебя только не хватало! Ишь нашлась заступница.
Между родней началась свара.
Брат покойного, всю ночь промолчавший, будто его и нету вовсе, выпивший пять стаканов водки, покрякивая и скрежеща зубами, да так, что оторопь брала, хотя жена с мольбой упрашивала: «Не пей, Иоан, ради Христа, не пей!» — только страшным, мертвенным взглядом поглядел на нее, она и отступила, ушла в сени и оттуда кротко поглядывала на пьяного мужа.
Все время, покуда Шута говорил, он тихо плакал.
Теперь накопленная за все годы обида на братнину родню всколыхнулась, захлестнула, помутила разум, вылилась в неудержимую ярость. Мутным взглядом обвел он собравшихся. Сердцем почуяв, что с ним происходит, жена бросилась к нему, хотела схватить за руку, да не успела, только и крикнула:
— Иоан! Опомнись! Убьют ведь!..
Нечеловеческой силы обрушился удар. Во все стороны брызнули осколки стекла. Василе рухнул как подкошенный.
Все на миг оцепенели, и вдруг замельтешили кулаки, поднялся крик, вой.
— О-о-о!.. Ничего не вижу!.. Ослеп!.. Гады! Выньте стекло из глаз!
— Убивают!
— Дай ему!
— Врежь как следует!
Люди сцепились в звериной схватке. Потеряв человеческий облик, увечили друг друга в припадке безумия и ярости.
Хватали кто что горазд, в чьей-то руке мелькнула лампа, по ней пришелся удар топором. Вспыхнул огонь…
Шута, сделавшись вдруг маленьким и неприметным, тихо отступил в тень.
Когда смерть, проникнув в дом, заняла его место, он выскользнул во двор и растаял в ночи.
Тихо, совсем неслышно захлопнулась за ним тяжелая наружная дверь.
Перевод М. Ландмана.
ИЗ ГНЕЗДА
Моему дяде, Паулу Дану
Тупо, ничего не соображая, учитель еще раз заглянул в телеграмму и снова перечитал ее.
Потом отложил и тяжело опустился в кресло.
Слова, выведенные печатными буквами на пожелтелой почтовой бумаге, стояли у него перед глазами, огромные, кричащие, словно вырезанные на живой человеческой коже.
«Умер отец.
Мама».
Почтальон все еще торчал у дверей и комкал в руках форменную фуражку; долговязый, несуразный, — как только для такого находят подходящую одежду? — он переминался с ноги на ногу, жалкий, пришибленный, точно собирался извиниться: «Простите-де, не я виноват».
Потоптавшись, он как-то бочком попятился к дверям, пряча виноватые глаза и втянув голову в плечи так, что стал виден потертый воротничок грязной рубахи, и учитель пожалел его. Он знал, что у почтальона семеро детей, больная жена; не было случая, чтобы он не сунул ему несколько леев или не предложил стакана вина.
Вот и сейчас намеревался он дать ему денег, уже было полез в карман за кошельком, но вдруг ему стало противно и совестно, и, посуровев, он сухо спросил:
— Что-нибудь еще?
— Расписаться надо…
Оставшись один, учитель еще раз перечитал телеграмму, положил ее на стол, на кипу тетрадей, и сел проверять. Но сосредоточиться не мог, мысли разбегались, он то и дело пропускал ошибки, возвращался к началу и опять пропускал.
За стеной слышался шум, крики, смех: дочери квартирной хозяйки принимали гостей.
Учитель почему-то стал прислушиваться к тому, что там происходит, старался выделить из общего веселого гула что-то, чему и сам не находил названия, пока явственно не различил шлепанье карт по столу.
«Отец умер…» — неожиданно произнес он вслух.
«Ну, умер. Смерть пришла, вот и умер, — возразил он сам себе. — Господь его прости и помилуй».
Он только отметил, что не ощутил ни горечи утраты, ни особого потрясения, отнесся к случившемуся так, как отнесся бы к некрологу в газете о чьей-нибудь чужой, неизвестной смерти. И все же что-то в нем надломилось — работать он уже не смог. Еще недавно садился он за стол бодрый, полный сил, а теперь чувствовал себя опустошенным, выжатым как лимон.
Он так и оставил тетрадь раскрытой на столе и стал одеваться. Он не знал, куда пойдет, что будет делать. Ему просто хотелось уйти из дому куда попало, лишь бы уйти: стены давили на него.
На пороге, в дверях, хозяйка шепталась с почтальоном. При виде учителя оба замолкли.
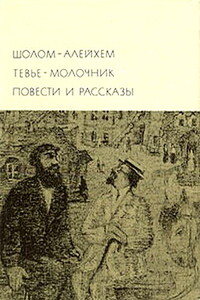
В книгу еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859–1916) вошли повесть "Тевье-молочник" о том, как бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, а также повести и рассказы: "Ножик", "Часы", "Не везет!", "Рябчик", "Город маленьких людей", "Родительские радости", "Заколдованный портной", "Немец", "Скрипка", "Будь я Ротшильд…", "Гимназия", "Горшок" и другие.Вступительная статья В. Финка.Составление, редакция переводов и примечания М. Беленького.Иллюстрации А. Каплана.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.