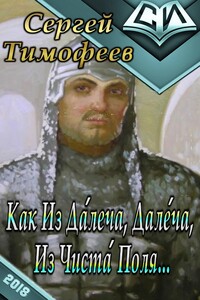— Пней жалко… Не пней, да не всех. Все — они обыкновенные, а ты за заговоренный взялся.
— Заговоренный?.. — Илья ушам своим не поверил.
— А ты глянь, что под ним. Глянь-глянь, не бойся, сказал же, твоя взяла…
Слез, отошел в сторонку. Наклонился Илья, глядит. Как раз месяц из облаков выбрался, осветил яму, а в ней — посуда всякая, желтого да белого металла, кружочки, украшения. Никак клад?
— Не маленький, знать должон, — вздохнул хозяин. — Когда на сохранение в лесу оставляют, кого приглядывать просят? С кем договор заключают? То-то же. Давно лежит, хозяев, небось, и в живых давно уж нету. Твой он теперь, забирай. На вот тебе мешок. Только вот, Илья, над чем подумай. Сумел взять — сумей распорядиться. Не сумеешь — хлебнешь горюшка; сам погибнешь, и других погубишь.
— А ты что посоветуешь?
— Я в людских делах не советчик… И вот что: ты тут наозорничал, днем исправить все надобно будет.
— Это что же я такое наозорничал?
— От людей услышишь. Прощевай, Илья. Не забуду, как ты меня давил, но и что сердца послушал, — тоже не забуду. Коли не тебе, так сродственникам твоим помогу. Окорот дам лесу, чтобы пашен ваших не глушил. Со зверьем помогу, как время охоты придет. А теперь прощай.
Поднялся, и исчез в лесу. Покачал головой Илья, надо ж такому случиться, рассказать кому — не поверят. За дурня сочтут. Собрал золото-серебро, уложил в мешок, выхватил пень, швырнул в темноту, и пошел к дому.
* * *
…Проснулся Илья поздно, и сразу услышал, как родители шумно разговаривают о чем-то возле крыльца. Прислушался. Чудные дела случились нынче ночью. Какие-то неведомые силы раскорчевали наделы, а пни побросали в овраг так, что перегородили течение Агафьи. Оно, конечно, доброе дело сделали, но так созорничать — лучше бы совсем не делали. Сами бы справились. Деревушка гудит разговорами, ровно потревоженный улей, а никто ничего толком сказать не может. Никто ничего не видел, не слышал. Так вот о чем хозяин речи вел… Что ж, оно и к лучшему. Не век же на печи скрываться. И отцу-матери открыться надобно, и поправить, что ночью не видя натворил. Позвал негромко. Вошли родители.
— Ну что, сынок, проснулся? — ласково спросила Ефросинья. — Кушать будешь?
— Я это, — буркнул Илья, точно в омут с головой.
— Что — ты?
— Слышал я, как вы с отцом возле крыльца разговаривали… Ну, про озорство… Не знаю, как уж и сказать… Ну, в общем, я это созорничал… Не со зла… Не видно было…
Переглянулись Иван с Ефросиньей. Вздохнули. Была одна беда, стало две…
— Ты, Илья, приляг пока. А я покамест за Велеславой… — пробормотал Иван, глядя в угол. Ефросинья отвернулась, слезу смахнула.
— Да нет же, батюшка, — не знает Илья, как и говорить, язык застревает. — Не все сказал я вам, ну, про странников тех, что давеча приходили… Вы присядьте, послушайте…
Присели родители. Начал Илья рассказывать. Как мог, через пень-колоду. Все больше в потолок смотрит, лишь изредка глаза скашивает. Видит: не верят ему; хотят верить, а не верят.
Поднялся Иван.
— Погоди, Илья, погоди. Сейчас мать тебе поесть подаст, а я все ж таки пока за Велеславой…
— Батюшка… Нет уж, это ты погоди…
И не успел Иван и шага шагнуть, рывком поднялся Илья на печи, сел, свесив ноги, соскользнул, встал, — руки в стороны. Зато Иван на ногах не удержался. Зашатался, и на лавку. Рот раскрыл. Ахнула Ефросинья, закрылась ладонями. Смотрят родители — глазам своим не верят.
— Матушка, батюшка! — бросился Илья перед родителями на колени, обнял, зарылся головой. — Вы уж простите, не знал, как вам открыться… Сам не сразу поверил… Помочь решил… Вот и натворил…
— Илья… Илюшенька… — шепчет Ефросинья. Не может слез остановить. И сказать ничего не может.
— Ты, что понатворил, исправить должон, — Иван тоже не знает, что сказать. Дрожит голос; руку поднял — ущипнуть себя хотел, уж не снится ли, — так и рука дрожит, ровно у старика векового.
— Радость… радость-то какая!.. — вскинулась Ефросинья. — Что же это… к родным надо… к соседям… всех звать… столы накрывать… радость-то…
Схватилась, и выскочила из избы.
Вышли и Илья с Иваном. Глядь — а уж народ подходит. Мнутся в воротах, друг друга вперед подталкивают. Сколько лет мимо ходили… Бабы из-за столбов приворотных выглядывают, ребятишки. А вдруг ослышались, вдруг померещилось… Нет, не померещилось. Вот он, Иван, а вот, рядом с ним, Илья. Улыбаются оба приветливо, руками машут: чего замешкались, проходите. Илья-то, Илья!.. Не узнать, как мальчиком был. В плечах раздался, усы, борода, стоит крепко, и силушки, видать, не занимать стать. Подходят сельчане, робеют. Иван с Ильей — навстречу. Слово за слово, разговор поднялся. Ну, тут уж осмелели.
Получаса не прошло — едва не вся деревушка на двор к Ивану сбежалась, разве уж совсем немощные по домам остались. Удивляются, расспрашивают, шум, гам. Бабы Ефросинью обступили, а та никак в себя от радости прийти не может, — плачет и плачет. Во всю жизнь, должно быть, столько слез не извела, сколько за эти полчаса. Велеслава пришла. Ей Илья уже совсем было в ножки поклониться собрался, да только зря. Не видела она никаких странников, никому про него не рассказывала, никого на двор не посылала. Да разве ж это важно?