Из огня да в полымя: российская политика после СССР - [78]
Российский опыт в этом отношении специфичен не только из-за низкого уровня репрессивности режима, но и из-за ненадежности средств массового подавления, – армия (выполняющая эти функции в ряде военных режимов) в подобном качестве в России не может быть использована, а спецслужбы, рассматривающиеся в качестве главной опоры репрессивной политики, выступают, перефразируя Иосифа Бродского, скорее как воры, нежели как убийцы. Стоит подчеркнуть, что для нынешних российских руководителей не стоит вопрос о моральных ограничениях такого рода выбора – об этом говорит опыт уничтожения ими взятых в заложники сограждан наряду с боевиками во время террактов в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и в Беслане в 2004 году (вопрос о сохранении их жизней не мог стоять в принципе). Но неверно было бы и сводить этот вопрос лишь к техническим границам возможностей подавления, которые оказываются пройдены, если и когда на акции протеста выходит настолько много протестующих, что всех их подавить попросту невозможно (известно высказывание шефа служб безопасности ГДР в адрес Хонеккера в ноябре 1989 года: «Эрих, мы не можем побить столько людей») [256] .
Скорее, следует задать вопросы в иной последовательности: (1) решатся ли российские лидеры в случае реальной или воображаемой угрозы их политическому выживанию отдать приказ о массовом насилии в отношении сограждан; (2) если да, то будет ли этот приказ успешно выполнен, и позволит ли им насилие избавиться от подобной угрозы; и (3) если да, то окажутся ли вследствие такого шага российские лидеры заложниками исполнителей своего же приказа. Ответы на все эти вопросы, как минимум, неочевидны, и остается лишь рассчитывать на то, что на деле они могут так и не встать в политическую повестку дня нашей страны.
В-третьих, наконец, ни мы, ни российские лидеры, ни Россия в целом так и не знают степени управляемости (или, точнее говоря, неуправляемости) нашей страной со стороны правящих групп. Речь идет не о проявлениях сепаратизма на региональном уровне управления или сознательного саботажа принимаемых правящими группами решений нижестоящими чиновниками – такого рода проявления сегодня для России не характерны и нет оснований ожидать их в ближайшем будущем. Речь идет о том, что в условиях высоко коррумпированного авторитарного режима иерархия «вертикали власти» просто-напросто не справляется даже с относительно небольшими перегрузками и нештатными ситуациями – например, в случаях стихийных бедствий, подобных лесным пожарам летом 2010 года, когда с проблемами локального уровня поневоле вынужден был справляться федеральный Центр в режиме «ручного управления», а нижестоящие звенья «вертикали власти» систематически дезинформировали вышестоящее руководство.
Техногенные и природные катастрофы, точно так же, как экономические кризисы, в случаях, если и когда они происходят, могут стать тестом на выживание не только для «вертикали власти», но и для режима в целом, подобно тому, как трагическая Чернобыльская катастрофа 1986 года сыграла немалую роль в трансформации политического режима в СССР – именно после нее в полной мере стала очевидной вся пагубность информационной закрытости страны и невозможность принятия адекватных решений ее руководством. Последующий же поворот к политике гласности нанес по советскому режиму неотразимый удар.
Мы не можем предугадать всех возможных последствий управленческих кризисов любого масштаба и уровня в России сегодня, но не будет большой ошибкой полагать, что при сохранении в стране нынешнего политического режима и попытках удержания статус-кво любой ценой деградация всего аппарата управления государством и проблемы принципал-агентских отношений со временем будут лишь усугубляться. А, следовательно, те или иные вызовы, сами по себе не столь существенные с точки зрения управления страной, могут в тот или иной «критический момент» истории не встретить должного и своевременного ответа – известная строчка «враг заходит в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя» наглядно иллюстрирует эту проблему. Хорошо известно, что коррупция в системе хлебных поставок в Петрограде в феврале 1917 года спровоцировала относительно локальные выступления протеста столичных жителей, вскоре переросшие в революцию, которая положила конец монархии и всему прежнему политическому порядку царской России. И отнюдь нельзя исключить типологически сходного развития событий в нашей стране сегодня – пусть даже их фактическое наполнение может носить совершенно иной характер.
Даже этого короткого перечня неизвестных величин: (1) «фальсификация предпочтений» и непредсказуемость поведения россиян; (2) уровень готовности и способности правящих групп эффективно подавлять сопротивление граждан; (3) управленческая деградация и неспособность к реализации антикризисной политики – вполне достаточно для того, чтобы снять вопрос о сколь-нибудь реалистической оценке вероятности тех или иных сценариев политического развития нашей страны. Но помимо конкретных развилок и поворотов ситуации «здесь и теперь», существует и общая логика политической эволюции режимов и обществ, и нам необходимо за деревьями текущих событий в России увидеть и лес тех политических тенденций, которые определяют настоящее и могут определить и будущее политики в нашей стране.
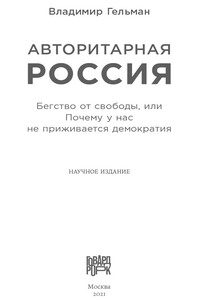
Демократия не гарантирует гражданам, что они станут жить лучше. Но она позволяет снизить риски того, что в условиях автократии они будут страдать от произвола коррумпированных правителей, нарушающих их права, не имея при этом возможностей для мирной смены власти. Почему и как именно Россия за последние три десятилетия перешла от коммунистического режима не к демократии, а к новому персоналистскому авторитаризму? Посткоммунистическая Россия не справилась с дилеммой одновременности. – необходимостью решать задачи демократизации, проводить рыночные реформы и изменять национально-государственное устройство страны.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.

Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.