Из Черниговской губернии - [2]
— Отчего же теперь лучше?
— Народъ сталъ обходительнѣй.
— Какой народъ?
— А начальство.
— Это правда, что правда, заговорилъ опять мой говорунъ:- сперва къ начальству, не то что подойти, да поговорить, а и взглянуть-то не всякій сунется; ну а теперь на счетъ этого стало просто: за своей нуждой иди прямо къ начальнику: нынѣ дурнаго слова не скажетъ начальникъ тотъ.
— Чиновнаго народу много, проговорилъ одинъ изъ артели, до сихъ поръ упорно молчавшій.
— Чиновниковъ? спросилъ я.
— Нѣтъ, изъ своего брата, изъ мужиковъ, чиновнаго народу ужъ очень много.
— Вѣдь чиновники изъ мужиковъ вездѣ есть? Безъ чиновниковъ какже быть?
— Вездѣ есть чиновный изъ брата своего мужиковъ, да не столько, сколько у насъ, отвѣчалъ еще угрюмѣй тотъ же мужикъ:- у насъ больше.
— Сколько же у васъ?
— Да у насъ на деревнѣ 400 душъ, то есть всѣхъ жителей 400 человѣкъ, и сколько ты думаешь у насъ чиновнаго народу изъ мужиковъ?
— Я не знаю.
— Человѣкъ пятьдесятъ будетъ!
— Какъ 50?
— Пятьдесятъ то будетъ вѣрныхъ, не было бы больше: ты вотъ что скажи!
— Какіе-жъ такіе чиновники?
— Голову, писаря считать нечего… а вотъ: два благонамѣренныхъ, шляховой и лепортовщикъ… да всѣхъ и не пересчитаешь.
— Чтожъ они, берутъ съ васъ взятки?
— Что онъ возьметъ съ мужика? съ мужика ему взять нечего.
— Какое же вамъ дѣло до чиновнаго народу? съ васъ они ничего не берутъ: пусть ихъ живутъ.
— Да вѣдь тебѣ работать надо, а тутъ тебя выберутъ въ какіе не за есть лепортовщики, — работать и не работай, а въ пору только службу справляй.
— А все вамъ не въ примѣръ лучше жить, чѣмъ господскимъ мужикамъ, сказалъ говорунъ.
— У какого барина?
— Да, хоть у А — на.
— Э!.. А — нъ шиломъ грѣетъ, проговорилъ тотъ, усмѣхаясь, — шиломъ грѣетъ… печетъ!..
Челнскій монастырь, 25 іюня.
Челнскій монастырь стоитъ верстахъ въ десяти отъ Трубчевска, на крутой горѣ, покрытой лѣсомъ, и изъ монастыря не видно ни одной деревни: такъ и кажется, что, войдя въ этотъ монастырь, оторвешься отъ всего остальнаго міра, — до того мѣсто уединенно. Но это только пока вы не вошли въ монастырскую ограду. Едва вы ступили шагъ въ ограду, видите, что здѣсь тѣже люди, тѣже желанія, тѣже опасенія и тотъ же самый народъ, какой и въ селахъ и въ деревняхъ; монаховъ съ перваго разу не замѣтите; по всему монастырскому двору разсыпанъ былъ народъ: мужики, раскинувшись подъ тѣнью деревъ и церквей, спали; бабы — богомолки изъ окрестныхъ деревень, собравшись кучками, шушукались; бабы торговки громко тараторили.
Я пришелъ въ субботу передъ всенощною, — поэтому народу было болѣе обыкновеннаго.
Въ говорѣ народа слышится одно: начала новой жизни, созданныя 19 февраля; въ этомъ говорѣ слышатся и радость, и надежда, и страхъ… не за будущее, нѣтъ — народъ увѣренъ въ своемъ хорошемъ будущемъ, боится народъ преступить законъ, сдѣлать не по закону и тѣмъ замедлить исполненіе царской воли. А отъ недоразумѣній — какія ужасныя бываютъ послѣдствія.
— Гдѣ братская? спросилъ я у перваго попавшагося мнѣ монаха.
— А вотъ, отвѣчалъ монахъ, махнувъ рукой на братскую, — ступай сюда, здѣсь братская.
Въ братской было народу много, и мужчинъ и женщинъ; разговоръ шелъ довольно оживленный и почти общій: одно теперь у всѣхъ на умѣ…
— Вамъ что! говорила одна баба богомолка:- что хочешь, то и дѣлай, не дѣлай беззаконія какого и только… а намъ, мои матушки родныя, просто головушку всю закрутило…
— Да вы чьихъ? спросилъ какой-то не то монахъ, не то послушникъ.
— А — ыхъ мы, А — скіе…
— О чемъ же у васъ головы закрутило? Али жирно наѣлись на теперешней волѣ?
— Когда было, родимый! Давно-ли воля то сказана? такъ туже пору и отъѣшься! Какъ можно родимый.
— А что только у насъ дѣлается! сказалъ, вздохнувъ, одинъ мужикъ, сидѣвшіи въ сторонѣ.
— А что?
— И сказать не знаю какъ.
— Да вы чьихъ?
— Мы ничьихъ.
— Вольные?
— Нѣтъ, удѣльные.
— А у васъ-то что?
— У васъ землемѣры землю межутъ — вотъ что!
— Да не у васъ однихъ: землемѣры вездѣ ходятъ, вездѣ у всѣхъ землю мѣряютъ.
— Вездѣ мѣряютъ, а пока еще Богъ миновалъ: пока еще нигдѣ земли не рѣжутъ.
— Да у насъ еще пока тоже Богъ миновалъ, продолжалъ старикъ: — землю мѣрять мѣряютъ, вѣшки становятъ, а земли рѣзать не рѣжутъ!..
— А пусть ихъ мѣряютъ!
— У насъ не одну землю мѣряютъ.
— Какъ не одну землю?
— Десну мѣряютъ! проговорилъ старикъ, къ ужасу всѣхъ слушателей…
— Какъ Десну?
— Десну!
— И ты видѣлъ?
— Всѣ видѣли…
— Я, браты мои, диву дался, заговорилъ одинъ: — что такое это означаетъ? воду Богъ создалъ, вода у насъ вольная: кто хочешь, по этой водѣ ступай, бери эту воду, сколько себѣ знаешь; сколько тебѣ надо, столько и бери… и эту то воду Божію мѣряютъ!.. Своими-бъ глазами не видалъ, — людямъ-бы и вѣры не далъ… да и вѣрить то какъ?
Я вышелъ изъ братской, на крыльцѣ и въ сѣняхъ бабы толковали все о той-же волѣ.
— И что такое дѣлается, одинъ Богъ святой знаетъ! Спросишь, кто грамотный да путный, тотъ тебѣ про волю и говорить не станетъ, а какой — безпутный — того наплететъ, что и не разберешь… послушаешь того безпутнаго — просто, мои родныя матушки, просто голову сниметъ… Ужъ такая бѣда, что и сказать нельзя!
— Послушаешь — выпорютъ! поддакнула дура, тоже старушка богомолка.
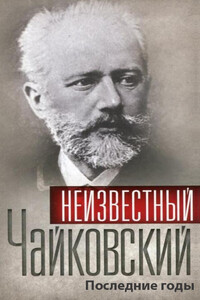
Настоящее издание – попытка приблизить современников к личности и творчеству гениального русского композитора. Здесь описаны события последних пяти лет жизни П.И. Чайковского (1888–1893), когда им были созданы величайшие произведения – оперы «Иоланта» и «Пиковая дама», музыка к балету «Щелкунчик» и Шестая («Патетическая») симфония, которой он впервые дирижировал сам. В книге, основанной на личной переписке Чайковского с братьями Анатолием и Модестом, композитором Сергеем Танеевым, поэтом Константином Романовым, Надеждой фон Мекк и другими, читателям откроется таинственный внутренний мир человека, музыке которого полтора века поклоняется мир и чьи произведения до сих пор являются самыми исполняемыми на земном шаре.
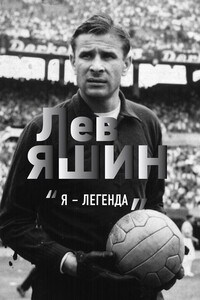
Лев Яшин был абсолютной величиной в мировом футболе. Он стал первым вратарем, получившим “Золотой мяч”, а в 1999 году ФИФА назвала его лучшим вратарём ХХ века. Однако он был не только прекрасным спортсменом, но и выдающейся личностью… Перед вами самая полная биография великого российского футболиста, из которой вы узнаете о его пути, больших победах и горьких разочарованиях.
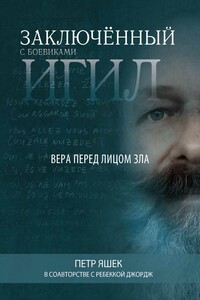
10 декабря 2015 года Петр Яшек прибыл в аэропорт столицы Судана города Хартум, чтобы вылететь домой, в Чешскую Республику. Там он был задержан суданской службой безопасности для допроса о его пребывании в стране и действиях, которые, в случае обнаружения, поставят под угрозу преследуемых христиан, с которыми он встречался. После задержания, во время продолжительных допросов, Петр понял, что в ближайшее время ему не вернуться к своей семье… Вместо этого Петру было предъявлено обвинение в многочисленных особо тяжких преступлениях, и он был заключён в тюрьму на 445 дней — только за то, что предоставил помощь христианам, преследуемым правительством Судана.
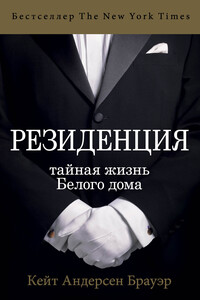
Повседневная жизнь первой семьи Соединенных Штатов для обычного человека остается тайной. Ее каждый день помогают хранить сотрудники Белого дома, которые всегда остаются в тени: дворецкие, горничные, швейцары, повара, флористы. Многие из них работают в резиденции поколениями. Они каждый день трудятся бок о бок с президентом – готовят ему завтрак, застилают постель и сопровождают от лифта к рабочему кабинету – и видят их такими, какие они есть на самом деле. Кейт Андерсен Брауэр взяла интервью у действующих и бывших сотрудников резиденции.

Книга «Голоса Бессмертия» Елены Шуваевой-Петросян – сборник очерков, основанных на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны из Армении. Она повествует об эпизодах героических биографий фронтовиков, которые, завершив ратный труд, продолжили служить Отечеству в мирное время. Это, по сути, воспоминания немногих доживших до 75-летнего юбилея Победы участников Великой Отечественной войны, призванные стать частью общей памяти о подвиге армянского народа, его вкладе в общее дело победы над фашизмом.

Миллионы россиян знают (или им кажется, что знают), что Егор Гайдар делал. Кто-то за это его благодарит, кто-то проклинает. Но мало кто знает, почему он делал именно так, что он при этом думал. А ведь все это изложено в его книгах. В своих работах он описал всю социально-экономическую историю человечества – от первобытных обитателей пещер до жителей современных мегаполисов. Особое место в его работах занимает, разумеется, Россия, ее путь на фоне мирового развития. И все, что он делал на практике.
