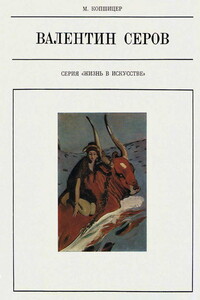Иван Никитин - [2]
«Когда Петр Великий во время прежде помянутого своего пребывания в Амстердаме, — рассказывает Штелин в „Анекдоте“ „Петра Великого старание сделать из своего народа искусных живописцев“, — зашел однажды в квартиру своего поддьяка Никитина, имея ему нечто приказать, но не застал его дома, токмо увидел нечаянно его сына 14 лет, которой при внезапном входе сего государя спрятал листок бумаги: он приказал сему мальчику показать себе ту бумажку. Сей юноша показал оную царю, и на ней начерчен только простой рисунок с голландского ландшафта, который он для своей забавы и упражнения сделал. Царь из того признал особенную склонность сего мальчика к рисованию, и спросил его, не желает ли он научиться лучше рисовать. С великою охотою, сказал он, есть ль бы кто взялся меня научить. Хорошо, продолжал царь, я тебе такого человека доставлю; потом и в самом деле, спустя несколько дней, отдал его лучшему живописному мастеру в Амстердаме на 6 лет. Он долженствовал каждый год присылать его величеству пробу своих трудов, по коим бы успех его в сем художестве ясно видеть было можно. Из сего молодого российского ученика, сделался он в последующее время превосходной исторической живописец, коего еще некоторые отменные живописи в разных российских церквах в Санктпетербурге находятся; также и прекрасное изображение распятия Христова, которое пожаловала императрица Елисавета Петровна своему обер-егермейстеру, графу Разумовскому, в домашнюю его церковь, называемую Аничковскою богодельнею, где и поныне занимает первое место пред прочими живописьми».
Обстоятельный и на редкость подробный для своих лет рассказ, только… только все эти сведения давно признаны не отвечающими действительности. Они ни в чем не совпали с тем, что стало впоследствии известно историкам. И это тем более необъяснимо, что Штелин сам был младшим современником живописца и пользовался исключительно сведениями современников, очевидцев. Наконец, под «Анекдотом» стояла короткая, но многозначительная строка: «Известно от архитектора Земцова». Вот она-то и послужила завязкой всей последующей истории.
Обычно об архитекторе говорят: это такие-то и такие-то сооружения. Растрелли — Зимний дворец, Росси — Главный штаб, Тома де Томон — Биржа на стрелке Невы. Но разве так скажешь о Михайле Земцове! Он слишком человек петровского времени, чтобы вместиться в рамки одного зодчества.
Может быть, в сегодняшнем городе на Неве и мало осталось сооружений Земцова. Строившиеся им деревянные дворцы разбирались и разрушались. На месте церкви Рождества Богородицы на Невском вырос нынешний Казанский собор. Бесследно исчезли водонапорная башня у Летнего сада, необычный домик для контрольных приборов Акцизного ведомства в Петропавловской крепости. Остался там же, у входа в собор, павильон для ботика Петра и Симеоновская церковь на Моховой улице. Осталось и другое — направление градостроительства, которое утверждал Земцов и которое унаследовали от него поколения русских архитекторов: город как часть государства, а не императорская резиденция. Именно таким созидался Петербург, где он был одним из ведущих зодчих руководившей строительством Канцелярии от строений.
Ради утверждения своих идей Земцов работал с немыслимой, фантастической нагрузкой, руководя одновременно десятками строек — недаром после смерти зодчего его обязанности пришлось поделить между четырнадцатью людьми! В архивном фонде Канцелярии его имя встречалось чуть не на каждом листе. Земцов выписывал материалы, утверждал проекты, назначал исполнителей, принимал работу у мастеров всех специальностей и обязательно у живописцев. Без его мнения не решались вопросы окладов, квалификации, вознаграждений. Знал ли Земцов Никитина лично?
Никитин никогда не состоял в штате Канцелярии от строений, да и не сотрудничал с ней. Среди сохранившихся ее документов имени художника до сих пор не удавалось найти. Тем неожиданнее была запись одного из протоколов за 28 августа 1728 года. На листе 133 шестьдесят второй книги стояло: «Приказали оному архитекту Земцову его императорского величества денежное жалованье сего 728-го году на генварскую треть по окладу его, за вычетом ис того числа, по силе определения Канцелярии от строений, данных ис Канцелярии от Строений денег работным людям двум человеком, которых он определил без указу Канцелярии от Строений к живописцам, Ивану Никитину да Андрею Матвееву четырех рублев тридцати трех копеек, сто семьдесят девять рублев с третью выдать».
Значит, Земцов знал Никитина, знал настолько хорошо, что помог в работе по собственной инициативе, пренебрегая мнением администрации. Доказательство тесного контакта архитектора и живописца налицо. Тем менее вероятной становилась ошибка Земцова в отношении биографии Никитина. Ведь речь шла об исключительно редкой в те годы заграничной поездке.
Конечно, в чем-то мог ошибиться и Штелин, не записать услышанного сразу, понадеяться на память, но «Анекдот» содержит слишком много подробностей, а главное — Штелин упорствует в своем заблуждении, ссылаясь в другом случае на слова Ивана Лукьяновича Талызина.
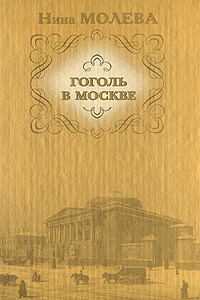
Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его боготворила московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.
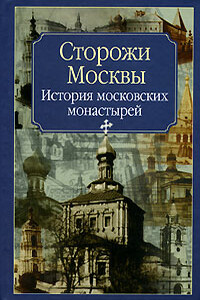
Сторожи – древнее название монастырей, что стояли на охране земель Руси. Сторожа – это не только средоточение веры, но и оплот средневекового образования, организатор торговли и ремесел.О двадцати четырех монастырях Москвы, одни из которых безвозвратно утеряны, а другие стоят и поныне – новая книга историка и искусствоведа, известного писателя Нины Молевой.
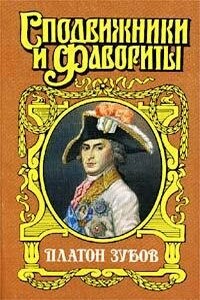
Новый роман известной писательницы-историка Нины Молевой рассказывает о жизни «последнего фаворита» императрицы Екатерины II П. А. Зубова (1767–1822).
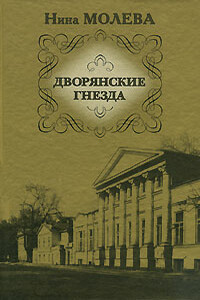
Дворянские гнезда – их, кажется, невозможно себе представить в современном бурлящем жизнью мегаполисе. Уют небольших, каждая на свой вкус обставленных комнат. Дружеские беседы за чайным столом. Тепло семейных вечеров, согретых человеческими чувствами – не страстями очередных телесериалов. Музицирование – собственное (без музыкальных колонок!). Ночи за книгами, не перелистанными – пережитыми. Конечно же, время для них прошло, но… Но не прошла наша потребность во всем том, что формировало тонкий и пронзительный искренний мир наших предшественников.
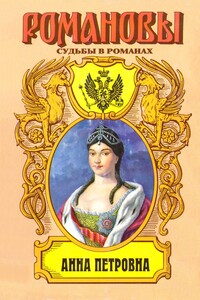
По мнению большинства историков, в недописанном завещании Петра I после слов «отдать всё...» должно было стоять имя его любимой дочери Анны. О жизни и судьбе цесаревны Анны Петровны (1708-1728), герцогини Голштинской, старшей дочери императора Петра I, рассказывает новый роман известной писательницы Нины Молевой.
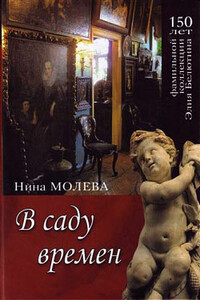
Эта книга необычна во всем. В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV–XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима. В ткань повествования входят литературные портреты искусствоведов, реставраторов, художников, архитекторов, писателей, общавшихся с собранием на протяжении 150-летней истории.Заложенная в 1860-х годах художником Конторы императорских театров антрепренером И.Е.Гриневым, коллекция и по сей день пополняется его внуком – живописцем русского авангарда Элием Белютиным.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
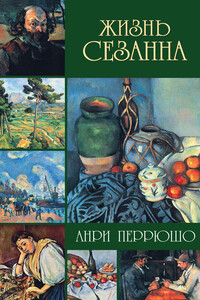
Писатель Анри Перрюшо, известный своими монографиями о жизни и творчестве французских художников-импрессионистов, удачно сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с достоверностью фактов, пытаясь понять особенности творчества живописцев и эпохи. В своей монографии о знаменитом художнике Поле Сезанне автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования. В книге использованы уникальные документы, воспоминания современников, письма.
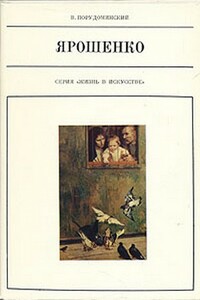
Книга посвящена одному из популярных художников-передвижников — Н. А. Ярошенко, автору широко известной картины «Всюду жизнь». Особое место уделяется «кружку» Ярошенко, сыгравшему значительную роль среди прогрессивной творческой интеллигенции 70–80-х годов прошлого века.
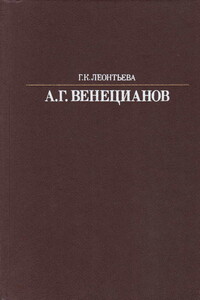
Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени.