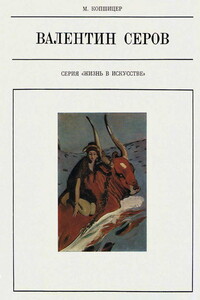Иван Никитин - [3]
И снова «почему». Почему Талызин, адмирал Российского флота, человек далекий от искусства, помнил о Никитине — просто как современник или по какой-то особой причине, позволяющей предполагать большую достоверность сообщенных им сведений?
Биографическая энциклопедия русских моряков — «Морской список» не грешит многословием. Талызин. В 1715 году произведен в гардемарины, в 1716 году послан учиться в Голландию, в 1729-м вернулся в Россию. Да, за тринадцать лет пребывания в Голландии нетрудно было узнать всех работавших здесь пенсионеров. Все они — независимо от специальности — подчинялись «российскому агенту», иначе полномочному представителю, некоему Фанденбурху. Он выплачивал им деньги на содержание, писал рапорты о ходе их занятий. Русская колония была небольшой и тесно связанной. Именно поэтому Талызин подробно перечисляет Штелину побывавших в Голландии русских художников. Нет, не так-то проста задача с «Анекдотом» и далеко не очевиден ответ на нее.
Впрочем, есть еще возможность. «Любопытные и достопамятные сказания о Петре Великом», как и выпущенные Штелиным раньше «Материалы для истории русского искусства», вместили лишь незначительную часть собранных историком материалов. Основная их масса осталась в рукописях, не систематизированных и не упорядоченных, которые после долгих перипетий поступили в бывшую императорскую публичную библиотеку, ныне библиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Не содержат ли богатейшие залежи штелиновских записей каких-нибудь пояснений, дополнительных ссылок?
Коридоры с гулкими каменными плитами пола и настоявшимся сумраком потолков. Сладковатый воздух сводчатых залов, почти осязаемой мутной стеной переливающийся в амбразурах окон. Слабо поблескивающее за помутневшими стеклами шкафов золото старинных корешков, видящихся будто сквозь время. Отдел рукописей… Блеклые листы, покрытые безукоризненным орнаментом штелиновской готики, кажутся непреодолимо сложными для чтения. Глаза снова и снова пробегают по тем же строчкам, и наконец знакомое имя.
Дело № 6, лист 46: «Иван Никитин посылан был в Италию учиться к в Италии был славным мастером. По приезде велел государь по сту рублей брать за каждый их величества поясные портреты и всем знатным неотменно повелел иметь государевы портреты. По кончине государя в нещадную послан с братом в ссылку, где написал церковный иконостас в Тобольске. Здесь дела его во Введенской церкви образ Екатерины и Александра писан под караулом будучи. Сего времени назывался в Петербурге придворным живописцем».
Как же так? То, что открыли последующие историки в опровержение Штелина, было хорошо известно ему самому. Он знал две версии жизни Ивана Никитина — «голландскую» и «итальянскую» — и не видел в них никакого противоречия, будто речь шла о совсем разных людях. Заподозрить простую небрежность, описку становится невозможным.
Искусствоведение признало только «итальянскую» версию, «голландская» даже не заслужила упоминания в специальной литературе. Может, ее оказалось слишком легко опровергнуть? Но как? Просто отмести один факт, одно конкретное утверждение, а как быть, когда перед тобой целая биография, сложное сплетение фактов, действий, творческих интересов? Пусть все это не имеет отношения к нашему Никитину, но к кому же тогда? И откуда вообще родился рассказ Земцова?
Амстердам. Петр был там дважды: в 1697/98 и 1716/17 годах. Разные цели, разные характеры поездок. В молодости — неистребимая тяга к новому, к знаниям, умению; спустя двадцать лет — торжественное представительство русского царя. Земцов говорит о первой поездке, иначе Великом посольстве. Все здесь было «великим»: маршрут — чуть не через все страны Европы, дипломатические планы — союз против турок, состав — 250 человек с участием самого царя. На пути посольства были курфюрст Бранденбургский, голландские штаты, короли датский и английский, Вена, Венеция, Ватикан. В составе посольства 30 с лишним волонтеров, «охотников» изучить кораблестроительное и военное дело, и среди них Петр — «десятник Петр Михайлов». Работа на захолустной Саардамской верфи, на первоклассных верфях Ост-индской компании, доки Англии — сколько все это породило рассказов, анекдотов, легенд. Царь-плотник — ничего подобного не могли представить себе ни Европа, ни Россия, и что стоило такому царю оказаться в квартире простого поддьяка!
Впрочем, как раз такой приход не служил проявлением особого демократизма. Родовитыми подьячие не были, зато история постепенно передавала в их руки, руки государственных чиновников, все большее фактическое влияние и власть. К тому же Штелин называет Никитина поддьяком, подчеркивая значительность его служебного положения. Вот только существовал ли такой Никитин?
Земцов приводит возраст мальчика — четырнадцать лет. Правда, в воспоминаниях современников такого рода подробности не отличаются точностью, и все же среди ста сорока собранных Штелином рассказов только в одном этом есть указание на возраст. Случайность или знание?
«Простой рисунок с голландского ландшафта», который делал Никитин-младший. Нет сомнения, что здесь имелась в виду не картина, а гравюра — обычный оригинал для рисования в XVIII веке. Кем бы впоследствии ни становился учащийся — от живописца, скульптора, гравера до выполнявшего художественные поделки ремесленника, его путь в искусство лежал через бесконечное копирование гравюр.
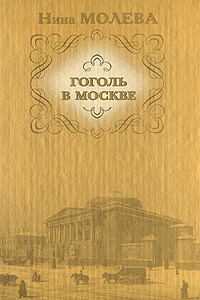
Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его боготворила московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.
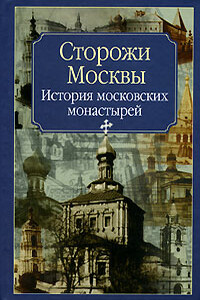
Сторожи – древнее название монастырей, что стояли на охране земель Руси. Сторожа – это не только средоточение веры, но и оплот средневекового образования, организатор торговли и ремесел.О двадцати четырех монастырях Москвы, одни из которых безвозвратно утеряны, а другие стоят и поныне – новая книга историка и искусствоведа, известного писателя Нины Молевой.
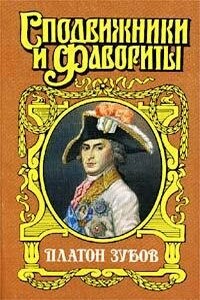
Новый роман известной писательницы-историка Нины Молевой рассказывает о жизни «последнего фаворита» императрицы Екатерины II П. А. Зубова (1767–1822).
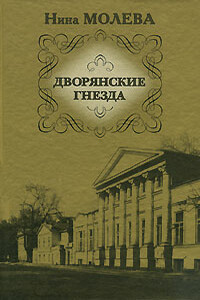
Дворянские гнезда – их, кажется, невозможно себе представить в современном бурлящем жизнью мегаполисе. Уют небольших, каждая на свой вкус обставленных комнат. Дружеские беседы за чайным столом. Тепло семейных вечеров, согретых человеческими чувствами – не страстями очередных телесериалов. Музицирование – собственное (без музыкальных колонок!). Ночи за книгами, не перелистанными – пережитыми. Конечно же, время для них прошло, но… Но не прошла наша потребность во всем том, что формировало тонкий и пронзительный искренний мир наших предшественников.
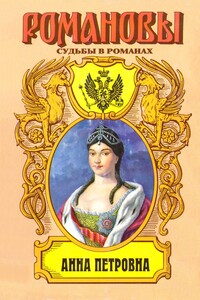
По мнению большинства историков, в недописанном завещании Петра I после слов «отдать всё...» должно было стоять имя его любимой дочери Анны. О жизни и судьбе цесаревны Анны Петровны (1708-1728), герцогини Голштинской, старшей дочери императора Петра I, рассказывает новый роман известной писательницы Нины Молевой.
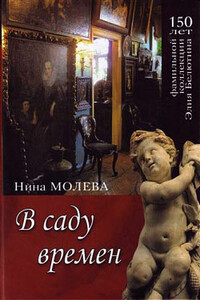
Эта книга необычна во всем. В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV–XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима. В ткань повествования входят литературные портреты искусствоведов, реставраторов, художников, архитекторов, писателей, общавшихся с собранием на протяжении 150-летней истории.Заложенная в 1860-х годах художником Конторы императорских театров антрепренером И.Е.Гриневым, коллекция и по сей день пополняется его внуком – живописцем русского авангарда Элием Белютиным.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
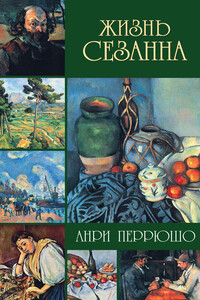
Писатель Анри Перрюшо, известный своими монографиями о жизни и творчестве французских художников-импрессионистов, удачно сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с достоверностью фактов, пытаясь понять особенности творчества живописцев и эпохи. В своей монографии о знаменитом художнике Поле Сезанне автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования. В книге использованы уникальные документы, воспоминания современников, письма.
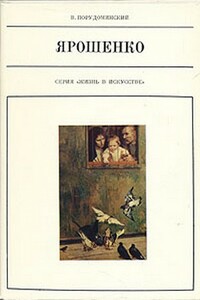
Книга посвящена одному из популярных художников-передвижников — Н. А. Ярошенко, автору широко известной картины «Всюду жизнь». Особое место уделяется «кружку» Ярошенко, сыгравшему значительную роль среди прогрессивной творческой интеллигенции 70–80-х годов прошлого века.
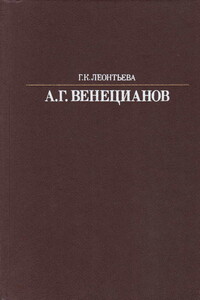
Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени.