История свободы. Россия - [23]
Лев Толстой знаменит как жертва своего художественного таланта и гражданской совести. Было время, когда его страстная любовь к «чистому искусству» и ненависть к политике, подогреваемые в нем Фетом и Боткиным, достигли апогея. В 1858 году он пишет:
«Большинство публики начало думать, что задача всей литературы состоит только в обличении зла, в обсуждении и в исправлении его… что времена побасенок и стишков прошли безвозвратно, что приходит время, когда Пушкин забудется и не будет более перечитываться, что чистое искусство невозможно, что литература есть только орудие гражданского развития общества и т. п. Правда, слышались в это время заглушенные политическим шумом голоса Фета, Тургенева, Островского… но общество знало, что оно делало, продолжало сочувствовать одной политической литературе и считать ее одну – литературой. Увлечение это было благородно, необходимо и даже временно справедливо. Для того, чтобы иметь силы сделать те огромные шаги вперед, которые сделало наше общество в последнее время, оно должно было быть односторонним, оно должно было увлекаться дальше цели, чтобы достигнуть ее, должно было одну эту цель видеть перед собой. И действительно, можно ли было думать о поэзии в то время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась картина окружающего нас зла и представлялась возможность избавиться от него. Как думать о прекрасном, когда становилось больно! Не нам, пользующимся плодами этого увлечения, укорять за него… Но как ни благородно и ни благотворно было это одностороннее увлечение, оно не могло продолжаться, как и всякое увлечение. Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития»[71].
Однако было у Толстого и другое убеждение, от которого он никогда не отказывался, – он верил, что рядом с «политической литературой» существует литература другого рода, «отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность»[72]. Семь лет спустя он пишет Боборыкину:
«Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы»[73].
Несмотря на все, что произошло впоследствии, когда Толстой отверг искусство в целом как суету и разврат, поскольку оно не помогает исцелять нравственные раны, его творческие порывы оставались неудержимы. Спустя много лет, когда он написал «Хаджи Мурата», кто-то спросил у него, как он пришел к этой повести – какую нравственную или духовную идею он заложил в нее? Толстой ледяным тоном ответил, что старается разграничивать свой труд художника и свои нравственные проповеди. Он не требовал морализаторства от Чехова; и не желал иметь дела с Бернардом Шоу, хотя того никак нельзя было обвинить ни в невнятности, ни в недостаточной прямоте, ни в бегстве от социальных проблем, ни в отсутствии позитивных убеждений. Шоу написал Толстому восторженное письмо: в конце концов, те множества врагов, которых обличали он и Толстой, во многом совпадали. Но старик не отступился от своего мнения; пьесы и статьи Шоу он находил вульгарными, поверхностными и, главное, откровенно дурными с художественной точки зрения. Старания Толстого выработать простую и связную жизненную философию, основанную на неопровержимых истинах, были еще более героическими, требовали еще большего насилия над его собственными инстинктами, стремлениями и интуицией, чем усилия Белинского или Тургенева, и, соответственно, закончились еще более ужасным крахом. Все та же дилемма – все та же попытка найти квадратуру круга – составляет сущность поздних статей Блока «Народ и интеллигенция» и «Крушение гуманизма». Еще болезненнее, если такое возможно, эта проблема становится в «Докторе Живаго» и опубликованных, а возможно, и неопубликованных или даже не написанных произведениях Синявского и писателей его круга.
Вернемся к особому отношению Толстого к Белинскому. Читать его Толстой начал в 1856 году, нехотя поддавшись на уговоры Дружинина, который Белинского не выносил, и Тургенева, который его обожал. По словам Толстого, однажды ночью ему приснилось, будто, по мнению Белинского, социальные доктрины справедливы только тогда, когда их «пусируют до конца», и будто сам он с этим мнением согласен[74]. Он был в восторге от статей Белинского о Пушкине, и в особенности от идеи, что понять писателя можно, лишь уйдя в него с головой и ничего, кроме него, не видя. 2 января 1857 года Толстой записывает в дневнике: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться»[75], и хотя позже он считал Белинского скучным и бездарным автором, сформулированные им принципы прочно въелись в его, толстовское мировоззрение. Мне кажется неслучайным, что Толстой проводил в жизнь заветы Белинского со столь необычайной, хотя и молчаливой и, возможно, неосознанной, преданностью. В словаре Толстого-критика нет более уничижительного эпитета, чем «выдуманный»; только чистосердечность, только простота, только ясность, – если писатель вполне отчетливо осознает, что именно он хочет сказать, и если его взгляду ничто не мешает, eo ipso получится произведение искусства. Таким образом, Толстой идет еще дальше, чем был готов идти Белинский даже на пике своего радикализма; Белинский никогда не отступался от мнения, что художественный дар – нечто совершенно своеобычное, а следовательно, искренность – или тот факт, что некто видит жизнь своими собственными, а не чужими глазами и описывает увиденное ясно и без обиняков, – сама по себе еще не может считаться достаточным условием для того, чтобы создать произведение искусства. Позиция Толстого, как часто с ним бывало, – это упрощенный и гиперболизированный вариант и без того простого тезиса.

Со страниц этой книги звучит голос редкой чистоты и достоинства. Вовлекая в моральные рассуждения и исторические экскурсы, более всего он занят комментарием к ХХ столетию, которое называл худшим из известных. Философ и историк, Исайя Берлин не был ни героем, ни мучеником. Русский еврей, родившийся в Риге в 1909 году и революцию проживший в Петрограде, имел все шансы закончить свои дни в лагере или на фронте. Пережив миллионы своих земляков и ровесников, сэр Исайя Берлин умер в 1997-м, наделенный британскими титулами и мировой славой.

«Северный волхв» (1993) – последняя прижизненная книга британского мыслителя Исайи Берлина (1909–1997), которая входит в цикл его исследований, посвященных центральным фигурам контр-Просвещения: Жозефу де Местру, Джамбаттисте Вико и Иоганну Готфриду Гердеру. Герой книги Берлина Иоганн Георг Хаманн (1730–1788, полузабытый современник Канта, также, как и он, живший в Кёнигсберге, предстает в его эссе не столько реакционером и хулителем идеи автономного разума, сколько оригинальным мыслителем, ставшим предшественником основных тенденций философии нашего времени – идеи лингвистической природы мышления, неразрывности и взаимопроникновения природы и культуры, аффективных основ познания и множественности типов рациональности.
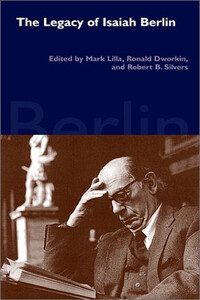
В 1945 году, впервые после того, как 10-летним мальчиком он был увезен из России, Исайя Берлин приехал в СССР. В отличие от, увы, многих западных интеллигентов, наезжающих (особенно в то время) в Советский Союз, чтобы восхититься и распространить по всему миру свой восторг, он не поддался ни обману, ни самообману, а сумел сохранить трезвость мысли и взгляда, чтобы увидеть жесткую и горькую правду жизни советских людей, ощутить и понять безнадежность и обреченность таланта в условиях коммунистической системы вообще и диктатуры великого вождя, в частности.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.