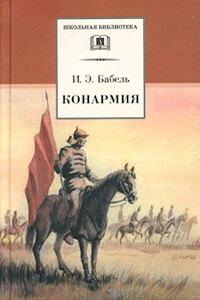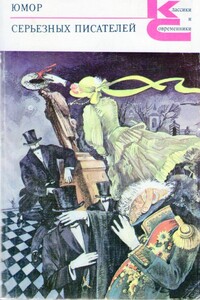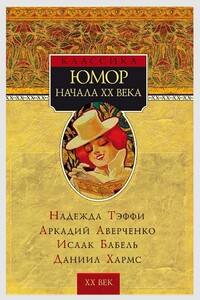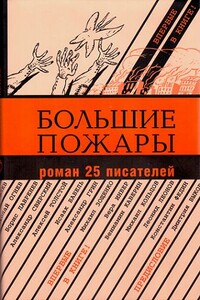Но тогда, десяти лет отроду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.
— Кузьма, — сказал я шопотом, — спаси нас…
И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за милой этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, потом он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в доме была обновка, и поостыл, только расчесав бороду мертвецу.
— Всех разбранил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью. — Кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки. Кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю…
Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.
— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче: — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер…
И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.