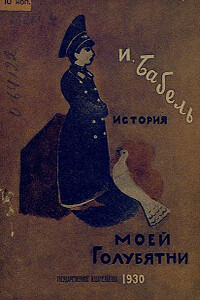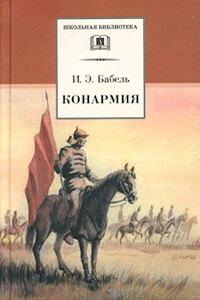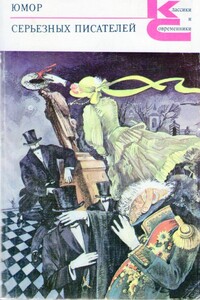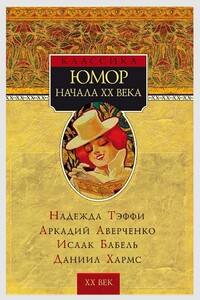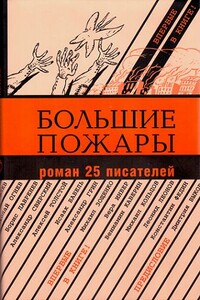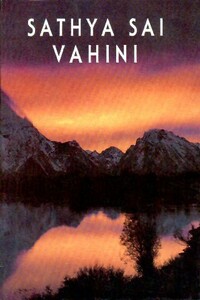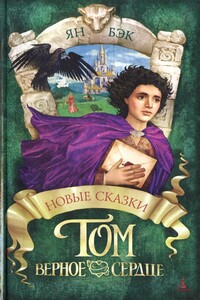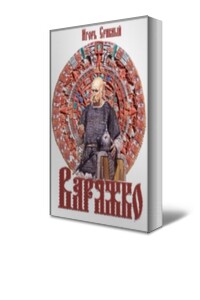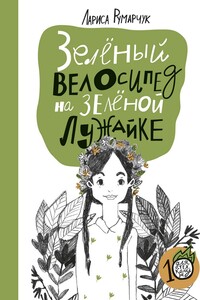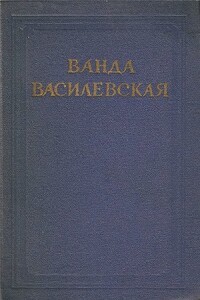Бабель Исаак Эммануилович
История моей голубятни
В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку теса и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.
Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. Теперь, после двух десятилетий, очень трудно сказать, как ужасно я их боялся. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого больше не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня. Я впал в нескончаемый странный сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.
Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей. Мне поставили пять с минусом вместо пяти и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец мой очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его к отчаянию. Он хотел побить Эфрусси или подговорить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его от дурных мыслей, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. У меня за спиной родные подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого класса сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом. Небольшой наш город долго шептался о необыкновенной моей удаче, и отец был так жалко горд ею, что мне непереносимо становилось думать о суетливой, переменчивой его жизни и о том, что он поддается так бессильно всем переменам и только радуется на них или слабеет.
Учитель Караваев был по мне лучше отца. Караваев был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, не работающих тяжелой работы, но противная бородавка сидела у него на щеке; из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре I. Я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.
О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихи Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи. Цветистые человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал Пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго. Никто не прерывал безумного моего визга, захлебаванья, бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь неистовую свободу, овладевшую мною, я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, ликовавшему за меня и за Пушкина:
— Какая нация — прошептал старик,— жидки ваши! В них дьявол сидит… — И когда я замолчал, он сказал: — Хорошо, ступай, мой дружок…
Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к выбеленной стене, стал просыпаться от судороги загнанных моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня; гимназический колокол висел неподалеку над пролетом казенной лестницы; маленький сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, и сюртук трудной, медленной волной пошел по его спине. Я видел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.
— Дети, — сказал он гимназистикам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную нежную руку на мое плечо.
— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, помощник попечителя, — передай отцу, что ты принят в первый класс.
Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, и большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.