История моего бегства из венецианской тюрьмы, именуемой Пьомби - [16]
Лоренцо сказал, что синьор Бр*** самолично предстал пред государственными инквизиторами, на коленях умоляя их о дозволении передать мне свидетельства его неизменной дружбы, если только я еще числюсь среди живых, и они даровали ему испрошенное разрешение.
Как-то утром взор мой упал на длинный железный засов, который валялся на полу рядом с другим хламом, я расценил его как орудие нападения и защиты одновременно и отнес в свою камеру, спрятав среди одежды. Оставшись один, я внимательно рассмотрел его, обнаружив, что он достаточно острый, и понял, что он послужит мне замечательным эспонтоном[55], пригодным на все случаи жизни. Я взял кусок черного мрамора, первую мою находку, и понял, что его можно использовать как точильный камень, потому что в результате первого же трения конца засова о камень я увидел, что на нем образовалась грань.
Мною овладело любопытство, занятие это было для меня новым, и меня воодушевляла надежда обладать предметом, который был строжайше запрещен в тюрьме; помимо этого, меня обуревало тщеславие, а вдруг мне удастся изготовить оружие, не имея для этого никаких необходимых инструментов? Сами трудности процесса его создания раззадоривали меня — я был вынужден точить засов почти в кромешной тьме на опоре решетки, при этом камень я мог зажать лишь левой рукой, да и то недостаточно крепко; вместо смазочного масла для заточки железного бруса мне пришлось пользоваться лишь собственной слюной; трудился я две недели, но сумел выточить восемь пирамидальных граней, образующих великолепное острие, грани эти были в полтора дюйма длиной. Получился восьмиугольный стилет столь правильной формы, что лучшего нельзя было бы требовать даже от умелого оружейника. Невозможно и вообразить себе, сколько усилий, силы воли и терпения мне потребовалось, чтобы завершить этот малоприятный труд, имея из инструментов лишь камень, то и дело выскальзывающий из рук. Это стало для меня мукой: quam sicili non invenere tyranny[56]. Я совсем не мог пошевелить правой рукой и, кажется, вывихнул плечо. Ладонь являла собой сплошную рану после того, как на ней лопнули пузыри. Но несмотря на боль, я не прекращал работу: мне хотелось довести ее до совершенства. Гордый своим творением, но еще не решив, как и для чего его использовать, хотел спрятать его туда, где его не сумели бы отыскать даже при обыске. Я придумал запихнуть его в солому, которой было набито кресло, но не сверху: если приподнять сиденье, то выпуклость сразу бросилась бы в глаза, а вместо этого, перевернув кресло вверх ножками, засунул туда весь засов; теперь найти его можно было, только если знать, что он там спрятан.
Именно так Господь посылал мне все необходимое для побега, который должен был стать для меня подарком судьбы, но отнюдь не чудом. Я, признаться, горжусь тем, что все придумал сам, однако должен заверить читателя, что тщеславие мое связано не с тем, чего мне удалось добиться, ибо мне часто сопутствовала удача, а с тем, что я посчитал свой план выполнимым и мне достало смелости его осуществить.
Три или четыре дня у меня ушло на размышления над тем, как я должен использовать свой засов, превратившийся в эспонтон толщиной со складную трость и длиной в двадцать дюймов; великолепное острие ясно доказывало, что не обязательно превращать железо в сталь, чтобы получить клинок, и я понял, что мне оставалось только одно — проделать дыру в полу моей камеры под кроватью.
Я был уверен, что внизу под ней находится тот самый зал, где я встречался с синьором Кавалли. Я был уверен и в том, что его отпирают каждое утро, а также в том, что как только я проделаю дыру, то смогу соскользнуть сверху вниз с помощью простыней, связанных наподобие веревки, которую прикреплю верхним концом к ножке кровати. В этом нижнем помещении я спрячусь под длинным столом, за которым заседает трибунал, а утром, как только откроют двери, выйду наружу и спрячусь в надежном месте раньше, чем начнется погоня. Я подумал, вполне вероятно, что Лоренцо оставлял одного из своих стражников охранять этот зал, но я бы избавился от него, вонзив ему в глотку мою пику. Придумано все было замечательно, однако загвоздка заключалась в том, что дыру эту невозможно было проделать ни за день, ни за неделю. Я предполагал, что пол мог быть настелен в два или даже в три толстых слоя, а это потребовало бы месяц-другой работы, а потому следовало измыслить предлог, чтобы помешать тюремщикам все это время подметать камеру; одного этого было достаточно, чтобы вызвать у них подозрения, если помнить о том, что, пытаясь избавиться от блох, я требовал подметать пол ежедневно. Метла сразу же угодила бы в дыру, а я должен был быть совершенно уверенным, что меня минует чаша сия. Дело было зимой, и блохи мне больше не досаждали. Сначала я дал распоряжение не подметать, не выдвигая никакого объяснения. Несколько дней спустя Лоренцо спросил, почему я запретил подметать, и я ответил, что пыль от метлы попадает мне прямо в легкие, вызывая кашель, что в дальнейшем может привести к опасной для жизни чахотке. «Мы обрызгаем водой пол», — сказал он. «Вовсе незачем, — ответил я, — ведь сырость может вызвать отечность». Он смолчал, но через неделю уже не стал спрашивать у меня разрешения подмести камеру. Он просто приказал сделать это; он даже велел вынести кровать на чердак под предлогом того, что нужно везде убрать, и зажег свечу. Я не возражал, напустив на себя безразличный вид, но понимал, что его действия продиктованы подозрениями. Я стал думать о том, как бы приступить к осуществлению замысла, и на следующий день, поранив себе палец, вымазал кровью носовой платок и, лежа в постели, стал дожидаться прихода Лоренцо. Я сказал ему, что меня одолел кашель, открылось кровохарканье и нужно вызвать лекаря. На следующий день пришел доктор, не знаю, поверил он мне или нет, но назначил пустить кровь и выписал рецепт. Я сказал ему, что всему виной жестокость Лоренцо, который, несмотря на мои предостережения, велел подмести камеру. Доктор стал выговаривать ему за это, а остолоп поклялся, что хотел мне добра, и дал слово, что ни за что не велит больше подметать, пусть даже меня продержат здесь еще десять лет. Я холодно возразил, что можно будет начать подметать, когда опять появятся блохи. Тогда врач рассказал, что несколько дней назад один молодой человек умер только из-за того, что решил стать парикмахером; он добавил, что не сомневается в том, что пыль и пудра, которые мы вдыхаем, навсегда оседают в легких. В душе я посмеялся, обнаружив, что лекарь со мной заодно. Присутствующие при разговоре стражники с радостью восприняли эту новость и решили впоследствии выказывать свое милосердие, подметая камеры только тех узников, которых они недолюбливали. После ухода доктора Лоренцо попросил у меня прощения, уверяя, что все остальные заключенные чувствуют себя хорошо, несмотря на то что их комнаты (он так и сказал — комнаты) ежедневно подметаются, но что теперь он просветит их на этот счет, что весьма важно, ибо как христианин он относится к нам словно к собственным детям. Впрочем, кровопускание было для меня весьма полезно: оно вернуло мне сон и излечило от мучительных желудочных колик. Впоследствии я просил пускать мне кровь каждые сорок дней.

Бурная, полная приключений жизнь Джованни Джакомо Казановы (1725–1798) послужила основой для многих произведений литературы и искусства. Но полнее и ярче всех рассказал о себе сам Казанова. Его многотомные «Мемуары», вместившие в себя почти всю жизнь героя — от бесчисленных любовных похождений до встреч с великими мира сего — Вольтером, Екатериной II неоднократно издавались на разных языках мира.
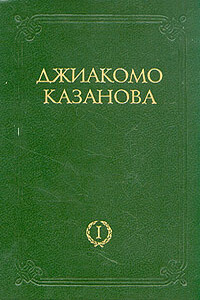
Мемуары знаменитого авантюриста Джиакомо Казановы (1725—1798) представляют собой предельно откровенный автопортрет искателя приключений, не стеснявшего себя никакими запретами, и дают живописную картину быта и нравов XVIII века. Казанова объездил всю Европу, был знаком со многими замечательными личностями (Вольтером, Руссо, Екатериной II и др.), около года провел в России. Стефан Цвейг ставил воспоминания Казановы в один ряд с автобиографическими книгами Стендаля и Льва Толстого.Настоящий перевод “Мемуаров” Джиакомо Казановы сделан с шеститомного (ин-октаво) брюссельского издания 1881 года (Memoires de Jacques Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme.

«Я начинаю, заявляя моему читателю, что во всем, что сделал я в жизни доброго или дурного, я сознаю достойный или недостойный характер поступка, и потому я должен полагать себя свободным. Учение стоиков и любой другой секты о неодолимости Судьбы есть химера воображения, которая ведет к атеизму. Я не только монотеист, но христианин, укрепленный философией, которая никогда еще ничего не портила.Я верю в существование Бога – нематериального творца и создателя всего сущего; и то, что вселяет в меня уверенность и в чем я никогда не сомневался, это что я всегда могу положиться на Его провидение, прибегая к нему с помощью молитвы во всех моих бедах и получая всегда исцеление.

«История моей жизни» Казановы — культурный памятник исторической и художественной ценности. Это замечательное литературное творение, несомненно, более захватывающее и непредсказуемое, чем любой французский роман XVIII века.«С тех пор во всем мире ни поэт, ни философ не создали романа более занимательного, чем его жизнь, ни образа более фантастичного», — утверждал Стефан Цвейг, посвятивший Казанове целое эссе.«Французы ценят Казанову даже выше Лесажа, — напоминал Достоевский. — Так ярко, так образно рисует характеры, лица и некоторые события своего времени, которых он был свидетелем, и так прост, так ясен и занимателен его рассказ!».«Мемуары» Казановы высоко ценил Г.Гейне, им увлекались в России в начале XX века (А.Блок, А.Ахматова, М.Цветаева).Составление, вступительная статья, комментарии А.Ф.Строева.
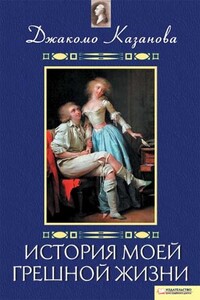
О его любовных победах ходят легенды. Ему приписывают связи с тысячей женщин: с аристократками и проститутками, с монахинями и девственницами, с собственной дочерью, в конце концов… Вы услышите о его похождениях из первых уст, но учтите: в своих мемуарах Казанова, развенчивая мифы о себе, создает новые!

Знаменитый авантюрист XVIII века, богато одаренный человек, Казанова большую часть жизни провел в путешествиях. В данной брошюре предлагаются записки Казановы о его пребывании в России (1765–1766). Д. Д. Рябинин, подготовивший и опубликовавший записки на русском языке в журнале "Русская старина" в 1874 г., писал, что хотя воспоминания и имеют типичные недостатки иностранных сочинений, описывающих наше отечество: отсутствие основательного изучения и понимания страны, поверхностное или высокомерное отношение ко многому виденному, но в них есть и несомненные достоинства: живая обрисовка отдельных личностей, зоркий взгляд на события, меткие характеристики некоторых явлений русской жизни.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
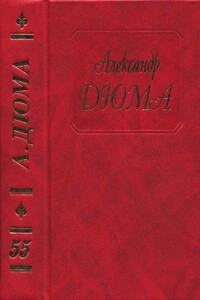
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
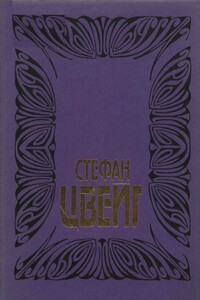
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

Один из самых знаменитых откровенных романов фривольного XVIII века «Жюстина, или Несчастья добродетели» был опубликован в 1797 г. без указания имени автора — маркиза де Сада, человека, провозгласившего культ наслаждения в преддверии грозных социальных бурь.«Скандальная книга, ибо к ней не очень-то и возможно приблизиться, и никто не в состоянии предать ее гласности. Но и книга, которая к тому же показывает, что нет скандала без уважения и что там, где скандал чрезвычаен, уважение предельно. Кто более уважаем, чем де Сад? Еще и сегодня кто только свято не верит, что достаточно ему подержать в руках проклятое творение это, чтобы сбылось исполненное гордыни высказывание Руссо: „Обречена будет каждая девушка, которая прочтет одну-единственную страницу из этой книги“.
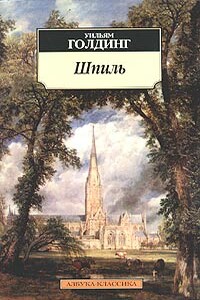
Роман «Шпиль» Уильяма Голдинга является, по мнению многих критиков, кульминацией его творчества как с точки зрения идейного содержания, так и художественного творчества. В этом романе, действие которого происходит в английском городе XIV века, реальность и миф переплетаются еще сильнее, чем в «Повелителе мух». В «Шпиле» Голдинг, лауреат Нобелевской премии, еще при жизни признанный классикой английской литературы, вновь обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла.

Самый верный путь к творческому бессмертию — это писать с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат престижнейших премий. В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день…» (тогда он вышел под названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читающей публики, а за Чингизом Айтматовым окончательно закрепилось звание «властителя дум». Автор знаменитых произведений, переведенных на десятки мировых языков повестей-притч «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», он создал тогда новое произведение, которое сегодня, спустя десятилетия, звучит трагически актуально и которое стало мостом к следующим притчам Ч.

В тихом городке живет славная провинциальная барышня, дочь священника, не очень юная, но необычайно заботливая и преданная дочь, честная, скромная и смешная. И вот однажды... Искушенный читатель догадывается – идиллия будет разрушена. Конечно. Это же Оруэлл.