История и повествование - [21]
Хотя вариант Державина (1796), сочиненный спустя полвека и опирающийся уже и на ломоносовскую традицию, не претендовал на дословность перевода, а, напротив, выставлял напоказ свою автобиографическую установку, по смысловой направленности он ближе к горацианскому источнику[51]. Пишущий о себе самом, поэте и придворном в екатерининской России (со времен Ломоносова статус поэта, безусловно, возрос, хотя бы из-за нового культа самого Ломоносова)[52], Державин органично переносит горацианскую оппозицию поэзии и скульптуры/архитектуры на обширную карту Российской империи: «от Белых вод до Черных». Горацианское введение в Италию «стихов эольских» переосмысляется в свете задач русского одописца периода позднего Просвещения, состоящих не столько в создании или переложении стилистических и риторических моделей, как это было у Ломоносова, сколько в артикуляции отношений поэта с властью («истину Царям с улыбкой говорить») и частных жанров с публичными («в забавном Русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге»).
На сей раз и «monumentum» — уже не абстрактный и высокопарный «знак бессмертия», а неоднозначный «памятник», указывающий одновременно и на нарративную, и на скульптурную форму и противопоставляющей их друг другу. Важно, что в поэтике Державина, вообще склонtlbro к экфрасису и «говорящей живописи»[53], монументальная форма — один из центральных образов, позволяющих поэту соединить одическое восхваление современных ему героев с элегическими размышлениями «на бренность». Державин внимателен к лексическому оформлению своих монументов: слово «монумент» используется им при описании грандиозных абстракций («Монумент милосердию», 1804) или крупных исторических фигур («Монумент Петра Великого», 1776); «истукан», «болван» и «кумир» подчеркивают ироническую установку автора («Мой истукан», 1794), в то время как «памятник», пожалуй, наиболее часто встречается при обращении к поэтической музе («Памятник Герою», 1791; «Памятник», 1796; «Память другу», 1804). Очевидно, несмотря на то что скульптурное определение «памятника» у Державина превалирует, — это единственный термин, позволяющий поэту размышлять о памяти и роли именно поэтического нарратива в ее закреплении.
В «Памятнике Герою» (1791), посвященном кн. Репнину, Державину призывает Музу к надгробию своего «Героя»:
Там, где читатель ожидает увидеть эпитафию, фиксирующую конкретные подвиги Героя, поэт предлагает картину забвения этих подвигов и разрушения их монументов. Представляя развалины скульптурного памятника, а с ними и стирание надгробной надписи, Державин определяет природу героизма вне воинских заслуг, которые сами влекут за собой хаос и разрушение («Развалины, могилы, пепел, черепья, кости им подобных, не суть ли их венец и слава? Ах нет!») и долговечность памяти вне поминальных изваяний («живет в преданьях добродетель»). Описав Героя через такие стандартные характеристики, как «добродетель», «спокойный дух и чиста совесть», Державин в последней строфе вновь обращается к Музе, но теперь уже не с призывом оплакать будущее разрушение памятника «в пении унывном», а, напротив, создать словесный памятник: «Строй, Муза, памятник Герою». Только в заключительной строфе раскрывается имя Героя и его конкретные достижения:
Последняя строка суммирует коммеморативную функцию державинского стихотворения: оно переводит преходящую воинскую славу Репнина в устойчивые категории «разума» и «пользы», понятные и ценные не только для просвещенных современников, но и для потомства. Противопоставление «разума» и «силы» часто встречалось в поэзии XVIII века; одной из самых известных моделей этой оппозиции была ода Жана-Баттиста Руссо «Sur la Fortune», переведенная Ломоносовым, Сумароковым и Тредиаковским в шестидесятых годах, в продолжение известных дебатов о российском стихосложении. Необычным в державинском варианте этого распространенного топоса стало приравнивание грандиозных монументальных форм к руинам, оставляемым позади полководцами:
В отличие от скульптурного памятника, который зачастую дает неверное, милитаризованное представление о прошедшем, нарративный — в состоянии создать героический текст, основанный на истинных подвигах и, сверх того, открыто различающий героев «добродетели» и «свирепства». Несмотря на свою эфемерность, повествовательное закрепление истории долговечнее потому, что оно способно распознать истинное геройство, а скульптурная форма скрывает истинный исторический нарратив за показным богатством материала:
В анонимном письме к издателю «Московского Журнала» Н. М. Карамзину Державин просит извинить свое инкогнито скромностью самого воспеваемого им Героя, «в честь которого сооружен им сей памятник». Заметим, что к 1790-м годам стало невозможным использовать «памятник» в конструкциях с глаголами письма, даже если подразумевалось именно поэтическое письмо: Державин «сооружает» памятник, его Муза призвана памятник «строить», а не направлять перо поэта. Эта скульптурная метафора поддается двоякому прочтению: с одной стороны, поэтическая Муза наделяется созидательными качествами скульптора-ремесленника, чье искусство общепризнано служит увековечению памяти умерших, и, таким образом, поэзия обретает силу как материальный объект, а не словесная абстракция; с другой стороны, поэзия с такой легкостью торжествует над скульптурным свидетельством за счет своей нарративной конкретности, что скульптура лишается всех своих притязаний на мемориализацию истории. Уже неважно, что Державин вскоре после опубликования своей оды разочаровался в своем Герое, — «Памятник Герою», как и горацианский «Памятник», увековечивает не военную

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

Запись программы из цикла "ACADEMIA". Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой славистики Оксфордского университета Андрей Леонидович Зорин рассказывает о трансформационном рывке в русской истории XIX века, принятии и осмыслении новых культурных веяний, приходящих с европейскими произведениями литературы и искусства.

Лев Толстой давно стал визитной карточкой русской культуры, но в современной России его восприятие нередко затуманено стереотипами, идущими от советской традиции, – школьным преподаванием, желанием противопоставить Толстого-художника Толстому-мыслителю. Между тем именно сегодня Толстой поразительно актуален: идея ненасильственного сопротивления, вегетарианство, дауншифтинг, требование отказа от военной службы, борьба за сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности – все, что казалось его странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом.

Поздняя проза Леонида Зорина (1924–2020) написана человеком, которому перевалило за 90, но это действительно проза, а не просто мемуары много видевшего и пережившего литератора, знаменитого драматурга, чьи пьесы украшают и по сей день театральную сцену, а замечательный фильм «Покровский ворота», снятый по его сценарию, остается любимым для многих поколений. Не будет преувеличением сказать, что это – интеллектуальная проза, насыщенная самыми главными вопросами – о сущности человека, о буднях и праздниках, об удачах и неудачах, о каверзах истории, о любви, о смерти, приближение и неотвратимость которой автор чувствует все острей, что создает в книге особое экзистенциальное напряжение.
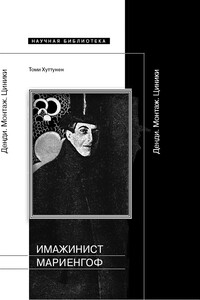
Исследование финского литературоведа посвящено творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста. Автор рассматривает не только имажинизм как историко-культурное явление в целом, но и имажинизм именно Мариенгофа, основываясь прежде всего на анализе его романа «Циники» (1928), насыщенного автобиографическими подтекстами и являющегося своеобразной летописью эпохи.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.
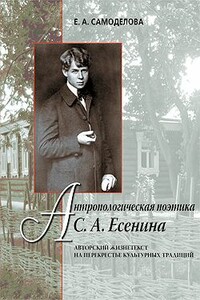
До сих пор творчество С. А. Есенина анализировалось по стандартной схеме: творческая лаборатория писателя, особенности авторской поэтики, поиск прототипов персонажей, первоисточники сюжетов, оригинальная текстология. В данной монографии впервые представлен совершенно новый подход: исследуется сама фигура поэта в ее жизненных и творческих проявлениях. Образ поэта рассматривается как сюжетообразующий фактор, как основоположник и «законодатель» системы персонажей. Выясняется, что Есенин оказался «культовой фигурой» и стал подвержен процессу фольклоризации, а многие его произведения послужили исходным материалом для фольклорных переделок и стилизаций.Впервые предлагается точка зрения: Есенин и его сочинения в свете антропологической теории применительно к литературоведению.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
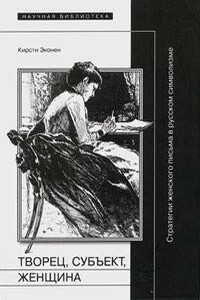
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.