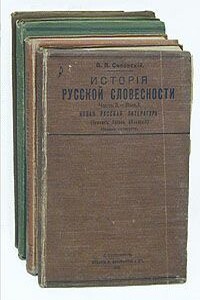Историческая поэтика новеллы - [4]
Новеллистическая сказка испытала и серьезное воздействие сказки волшебной, восходящей в конечном счете к более высокому регистру раннего повествовательного фольклора. Поэтому рядом с шутливыми анекдотами находим и более «серьезные» сюжеты, которые принято называть собственно новеллистическими сказками или бытовыми, или реалистическими, или романическими.
Я не вхожу в обсуждение самих терминов, достаточно неточных, поскольку не приходится говорить в фольклоре ни о реализме, ни о романичности или романтичности (romantic tales), а также поскольку в настоящих новеллах анекдотический компонент не менее важен, чем авантюрный и романический.
Различия между анекдотической и собственно новеллистической (романической, авантюрно-бытовой) сказками не только в оппозиции шутливости/серьезности, но и формально в различии коротких одноактных эпизодов или серии таких эпизодов, простой или более сложной композиционной структуры. Практически дифференциацию провести нелегко, тем более что элементы юмора часто проникают и в «романические» сюжеты. Кроме того, надо иметь в виду и широкую контаминацию анекдотических и авантюрно-бытовых, романических мотивов, с одной стороны, романических и волшебных — с другой.
Перейдем к краткой характеристике новеллистической и анекдотической сказки. Такое рассмотрение явится необходимой предварительной ступенью, предшествующей собственно исторической поэтике новеллы. Я буду исходить из общего объема, учтенного в Указателях сказочных сюжетов по системе Аарне — Томпсона (в дальнейших ссылках — АТ), и ссылаться, иногда критически, на эту общепринятую классификацию. Таким образом, новеллистическая «стихия» предстанет в ее элементарных основах на фоне других разновидностей фольклора, прежде всего волшебной сказки.
Особенности новеллистической сказки в узком понимании отчетливо выявляются как раз в сопоставлении с волшебной сказкой. Не буду давать описание волшебной сказки, подробно выполненное В. Я. Проппом и его продолжателями (см. [Пропп 1969, Греймас 1976, Мелетинский 1958, 1979, 1983, Мелетинский и др. 1969—1971]). Как известно, В. Я. Пропп представил метасюжет европейской волшебной сказки как линейную последовательность тридцати одной функции (а также определил ее персонажей и их роли). Но из этой последовательности нетрудно выделить два обязательных и третий дополнительный композиционный блок: после исходной ситуации беды/недостачи следуют 1) предварительное испытание героя чудесным помощником-дарителем, завершающееся получением чудесной помощи; 2) основное испытание, в котором чудесный помощник или чудесный предмет практически действуют вместо героя, что приводит к достижению основной цели и, как правило, к вознаграждению героя браком с царевной (царевичем); 3) и иногда, перед или после свадьбы, испытание на идентификацию — окончательное установление личности героя как субъекта основного испытания и наказание ложных претендентов. Эта трехступенчатая структура строится на решающей роли чудесного помощника и соответственно оппозиции предварительного и основного испытаний и представляет собой историю становления героя, как бы прошедшего переходные обряды инициации и брака (такая инициация и отчасти брак и лежат в основе фабулы волшебной сказки; см. [Сэнтив 1923, Пропп 1946, Мелетинский 1958]) и повысившего таким образом свой социальный статус.
Следует отметить парадоксальный феномен (уже однажды упомянутый нами выше): именно в волшебной сказке, насыщенной чудесными персонажами и действиями, речь идет не об отдельных необычайных случаях из жизни героя, а скорее, наоборот, об обязательном фрагменте героической биографии, об испытании-становлении героя. Сами волшебные персонажи прежде всего воспроизводят фигуру патрона инициации; это отчасти относится и к «дарителям», и к демоническим «вредителям», и к отцу невесты — царю. Поэтому, между прочим, не столько новелла, сколько рыцарский роман в дальнейшем разрабатывает общую схему волшебной сказки.
В новеллистической сказке нет чудес. Они лишь крайне редко встречаются на периферии сказки и не несут тех важных функций, которые на них возлагает волшебная сказка; кроме того, эти реликтовые «чудеса» часто относятся к категории бытовых суеверий (черт, колдун и т. д.), а не к классической сказочной модели мира. Приведем некоторые примеры.
В АТ 850 фигурирует чудесная дудочка, но она не непосредственно служит приобретению невесты-царевны, а только косвенно: обменивается на «стыдную» для царевны информацию о ее родимых пятнах. Царевна должна уступить герою из стыда — мотив, характерный как раз для новеллистической сказки. Кроме того, само использование чудесного предмета является здесь результатом сообразительности и хитрости героя. В некоторых версиях АТ 851 (в частности, в сборнике Афанасьева, Аф 198) герою помогает помощник Котома Дядька дубовая шапка — фигура чисто реликтовая. В АТ 853 среди предметов, оперируя которыми, герой выигрывает предсвадебное соревнование с царевной, встречаются и чудесные (сума, дудка, скатерть), но роль их несамостоятельная: все дело в остроумии младшего сына. В АТ 871 колдун, превращающийся в птицу, исполняет только служебную, второстепенную роль (переносит героиню к любовнику), также иногда упоминается «чортов мир», отдаленно напоминающий сказочные иные миры.
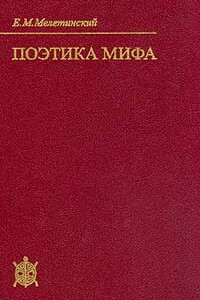
Монография Е. М. Мелетинского посвящена общим проблемам мифологии, анализу современных теорий мифа и критическому рассмотрению использования мифа в художественной литературе и литературоведении XX в. (современное мифотворчество в его отношении к первобытным и древним мифам). Рассматриваются мифология и литература как западного, так и восточного мира.

"Лет через десять после начала войны и лет через шесть после ее окончания я встретился с профессиональным военным корреспондентом Тихомировым. Мы спали на соседних нарах в исправительно-трудовом лагере "П". Лагерь был лесоповальный, с лесопильным заводом, но к моменту нашей встречи мы уже оба были "придурками", то есть служащими, а не рабочими, и жили в бараке для административно-технического персонала. В лагере, так же как и на фронте, идеализируется долагерное (довоенное) прошлое и во всяком случае усиливается желание утвердить себя за счет своего прошлого перед соседом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.