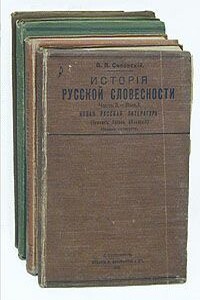Историческая поэтика новеллы - [3]
Сборники новелл с обрамлением сопоставимы в принципе с отдельными романами или повестями авантюрного или эпизодного построения, в которых определенные эпизоды или прямо вставные новеллы имеют относительно самостоятельное значение. (Вообще прием обрамления и прием вставной новеллы как художественные приемы также находятся между собой в отношении комплементарной дистрибуции.) Функцию, аналогичную обрамлению цикла новелл, может исполнять и введение повествователей, одного или нескольких, в отдельные новеллы, необязательно входящие в какие-то циклы.
Это также способ выхода новеллистического конкретного сюжета и стоящего в его центре единичного события за свои пределы, в большой мир.
С тем, что можно назвать «осколочностью» новеллы, связаны и некоторые ограничения новеллистического «драматизма». Как роман претендует на универсальность (некий эпический размах), так драма претендует на включение в изображаемый конфликт неких фундаментальных экзистенциальных сил, и исход борьбы протагонистов определяет победу какой-то из этих сил. В новелле мы скорее встречаемся с более частными конфликтами, хотя за ними может проглядывать и нечто достаточно фундаментальное. Исход новеллы не колеблет никогда мирового порядка и допускает повторение и разнообразие конфликтов в прошлом и будущем, в других местах и т. п.
К сказанному нужно еще добавить, что новелла, как и другие жанры, развивается и эволюционирует с относительной независимостью от прочих литературных факторов и что периоды ее расцвета не совпадают прямо с периодами расцвета тех или иных литературных направлений. Вообще расцвет малых жанров нередко падает на переходные эпохи и либо предшествует ! формированию больших эпических форм, либо следует за их частичным упадком.
Настоящая монография рассматривает жанр новеллы в ее формировании и последующих исторических модификациях вплоть до рубежа XIX—XX вв. При этом исследуются трансформации самых существенных признаков новеллы, а целый ряд подробностей повествовательной техники оставлен в стороне. Меньшее внимание уделено проблеме циклизации новелл и их соотношению с рамой.
В монографии рассматривается только прозаическая новелла (если не считать нескольких замечаний о фаблио). Интереснейшая проблематика стихотворной новеллы еще ждет своего исследователя. В монографии также не рассматриваются такие слабо структурированные малые жанры, как рассказ, очерк и т. п.
Ранние формы новеллы
1. НОВЕЛЛИСТИЧЕСКАЯ СКАЗКА
И СКАЗКА-АНЕКДОТ
КАК ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ
Современная новеллистическая сказка и близкая к ней сказка анекдотическая являются плодом и итогом длительного и у сложного взаимодействия собственно фольклорных и книжных источников (индийских, античных, средневековых), но в конечном счете сами эти книжные источники также имеют фольклорное происхождение. Древнейшее состояние фольклора реконструируется главным образом на материале фольклора так называемых культурно отсталых народностей, в культуре которых сохранились этнографически-пережиточные явления.
Самым архаическим прообразом повествовательного искусства, в том числе и новеллистического, являются мифологические сказания о первопредках — культурных героях и их демонически-комических двойниках — мифологических плутах-трикстерах (трюкачах). Особенно важны примитивные протоанекдотические циклы об этих последних, об их плутовских проделках для добывания пищи, гораздо реже — с целью утоления похоти (поиски брачных партнеров чаще всего сами являются косвенным средством получения источников пищи). Плутами-трикстерами являются многочисленные мифологические персонажи в фольклоре аборигенов Северной Америки, Сибири, Африки, Океании. Мне неоднократно приходилось писать об этом архаическом слое словесного искусства (см., например, [Мелетинский 1958, 1963, 1976, 1979, 1983 и др.]), и я отсылаю читателя к моим старым работам.
Необходимо только подчеркнуть, что «плутовская» стихия подобных примитивных рассказов и некоторые намеченные здесь парадоксальные повествовательные ходы и ситуации были унаследованы и сказкой о животных, вспоследствии породившей нравоучительную аллегорическую басню, и более поздними бытовыми сказками-анекдотами, непосредственными предшественниками новеллы и плутовского романа. Анекдотические истоки новеллистической сказки являются, таким образом, весьма древними не только хронологически (что доказывается книжными отражениями Древнего Востока и Античности), но и стадиально. Я говорю об анекдоте в основном в его современном значении, а не в смысле рассказа о характерном, но «незамеченном» событии в жизни исторического лица. Впрочем, и такие исторические анекдоты, большей частью имеющие письменный источник, равно как и нравоучительные «примеры» или фрагменты легенд, участвовали в формировании анекдотической сказки, точнее, взаимодействовали с ней. Для формирования анекдотов известное значение имела нарративизация паремий и близких к ним «малых» фольклорных жанров. О близости пословиц и поговорок как типов «клише» к побасенкам, анекдотам и некоторым нравоучительным сказкам очень верно писал Г. Л. Пермяков (см. [Пермяков 1970], ср. ([Штраснер 1968, с. 642]).
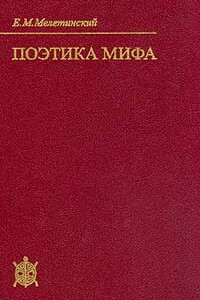
Монография Е. М. Мелетинского посвящена общим проблемам мифологии, анализу современных теорий мифа и критическому рассмотрению использования мифа в художественной литературе и литературоведении XX в. (современное мифотворчество в его отношении к первобытным и древним мифам). Рассматриваются мифология и литература как западного, так и восточного мира.

"Лет через десять после начала войны и лет через шесть после ее окончания я встретился с профессиональным военным корреспондентом Тихомировым. Мы спали на соседних нарах в исправительно-трудовом лагере "П". Лагерь был лесоповальный, с лесопильным заводом, но к моменту нашей встречи мы уже оба были "придурками", то есть служащими, а не рабочими, и жили в бараке для административно-технического персонала. В лагере, так же как и на фронте, идеализируется долагерное (довоенное) прошлое и во всяком случае усиливается желание утвердить себя за счет своего прошлого перед соседом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.