Историческая поэтика новеллы - [2]
Преобладание действия делает новеллу наиболее эпическим из всех эпических жанров (подразумевая, конечно, повествовательность, а не эпический размах). Вместе с тем краткость, концентрированность, примат действия и важность композиционного «поворота» способствуют появлению в рамках новеллы элементов драматизма. Все указанные признаки не исключительно принадлежат новелле, но их внутренняя связная совокупность характерна для этого жанра. Известную трудность представляет отделение новеллы от других малых жанров, часть которых прямо участвовала в ее формировании. Отличие новеллы от рассказа не представляется мне принципиальным. Рассказ отличается от новеллы главным образом меньшей мерой жанровой структурированности, большей экстенсивностью (ср. различие романа и повести). От анекдота, одного из важнейших истоков новеллы, ее в основном отличают, во-первых, большая степень нарративного развертывания и выход за пределы анекдотической ситуации, во-вторых, возможность иного, не комического, а, например, трагического или сентиментального колорита, без всяких анекдотических парадоксов. Влияние анекдотической стихии на протяжении всей истории новеллы усиливает ее жанровую специфику — в анекдоте сконцентрированы важнейшие элементы новеллы. От басни новеллу отличает отсутствие зооморфности основных персонажей, аллегоризма и обязательной дидактической направленности, часто выраженной в специальной сентанции. Отказ от дидактической иллюстративности отделяет ее и от так называемых «примеров» (exempla).
По сравнению с этими тремя малыми жанрами новелла обычно более тесно увязывает действие с внутренними индивидуальными импульсами персонажей. Отличие это реализовывалось постепенно, в ходе формирования самого жанра новеллы, и в дальнейшем этот процесс предстанет перед нами с известной наглядностью. Тот же самый процесс отдалял новеллу от легенды и волшебной сказки. На первый взгляд кажется, что главное отличие новеллы от легенды и сказки заключается в отсутствии элементов сверхъестественного и чудесного (от легенды — еще в замене богов и святых обыкновенными людьми, в отказе от иллюстративности). Действительно, как мы увидим, вызревание новеллистической сказки в недрах волшебной неотделимо от потери волшебного компонента, а классическая новелла эпохи Возрождения в Западной Европе, за редкими исключениями, совершенно его лишена. Но на Востоке (впоследствии, в эпоху романтизма, и на Западе) найдем совершенно иную картину. Там удивительное и чудесное иногда оказывается важной характеристикой новеллистического жанра. Казалось бы, и гетевская формула «неслыханного события» не очень противоречит представлению о сказочности. Отсутствие фантастики — может быть и характерный, но не необходимый признак новеллистического повествования. Как это ни странно звучит, надо признать, что именно сказка, при всей своей волшебности, ориентирована не столько на необычайное и исключительное (что специфично для новеллы), сколько на «типическое». Дело в том, что восходящие к мифу фантастические образы сказки воспринимаются еще достаточно серьезно как традиционно принятые воплощения сил, участвующих в «переходных ритуалах» (прежде всего инициации), совершаемых героем, а сами эти переходные ритуалы являются знаком не чего-то небывалого, а, наоборот, обязательной формы становления личности в племенном обществе. Волшебное в сказке стоит посредине между пониманием сверхъестественного как естественного (в мифе) и как все же удивительного (как в новелле). «Биографизм» сказки (рассказ о становлении героя) не вполне отвечает идее одного неслыханного события и, как это ни парадоксально, скорее приближает сказку к роману (особенно рыцарскому), чем к новелле, действительно ориентированной на воспроизведение удивительного случая на «пути» героя. Поэтому сказку можно слушать повторно, а новеллу нет.
Самое слово «новелла» указывает на что-то новое, чего раньше не было.
Необходимо еще отметить, что новелла не претендует на универсальность, как большие эпические жанры. Изображая отдельные случаи и удивительные события, новелла и даже тяготеющие к ней предновеллистические формы подаются сознательно как своего рода фрагмент, осколок универсальной картины мира, предполагающий наличие многих других фрагментов, дополняющих, усложняющих, обогащающих картину мира. Отсюда вытекают два важных следствия: во-первых, тот же новеллист очень часто предлагает некое циклическое собрание новелл, рисующих заведомо разные ситуации и трактующих аналогичные ситуации с разных сторон, по-разному их интерпретирующих, иногда с нарочитой установкой на дополнительную дистрибуцию.
Во-вторых, выход за пределы новеллы как фрагмента большого мира часто выражается во вставлении серии новелл в обрамляющую раму. Между рамой и новеллами возникают при этом своеобразная «перекличка», аналогии и контрасты, уточняющие общий смысл. Иногда герои обрамляющей новеллы выступают в качестве не только рассказчиков, но и действующих лиц отдельных новелл. Так возникают книги новелл, которые в какой-то мере, точнее на каком-то уровне, могут рассматриваться в качестве замкнутой структуры и как единое произведение. Впрочем, в ряде случаев обрамление выступает просто как традиционный технический прием.
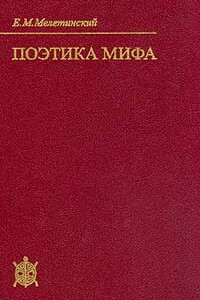
Монография Е. М. Мелетинского посвящена общим проблемам мифологии, анализу современных теорий мифа и критическому рассмотрению использования мифа в художественной литературе и литературоведении XX в. (современное мифотворчество в его отношении к первобытным и древним мифам). Рассматриваются мифология и литература как западного, так и восточного мира.

"Лет через десять после начала войны и лет через шесть после ее окончания я встретился с профессиональным военным корреспондентом Тихомировым. Мы спали на соседних нарах в исправительно-трудовом лагере "П". Лагерь был лесоповальный, с лесопильным заводом, но к моменту нашей встречи мы уже оба были "придурками", то есть служащими, а не рабочими, и жили в бараке для административно-технического персонала. В лагере, так же как и на фронте, идеализируется долагерное (довоенное) прошлое и во всяком случае усиливается желание утвердить себя за счет своего прошлого перед соседом.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».