Истоки постмодерна - [2]
Но эпоху постмодерна определенно отличали, по его мнению, две тенденции: рост влияния промышленных рабочих на Западе и появление за его пределами образованного класса, пытающегося овладеть секретами модерна и обратить их против Запада. Наиболее продолжительные рассуждения Тойнби о начале эпохи постмодерна касаются именно этой последней тенденции. Среди приводимых им примеров: Япония Мэйдзи, большевистская Россия, кемалистская Турция и только что возникший маоистский Китай>6. Тойнби в общем не был почитателем этих режимов, но он весьма язвительно отзывался о надменных иллюзиях позднеимпериалистического Запада. По его словам, в конце XIX в. «беспрецедентно процветающий и наслаждающийся беспрецедентно комфортной жизнью западный средний класс считал чем-то само собой разумеющимся, что завершение одной эпохи одной цивилизации является концом самой Истории — по крайней мере, постольку, поскольку речь шла о нем самом. Его представители воображали, что здоровая, спокойная и приятная современная жизнь каким-то чудесным образом будет к их вящей пользе длиться вечно»>7. Вопреки новым тенденциям эпохи «постмодернистская буржуазия Великобритании, Германии и США пребывала в состоянии самодовольства вплоть до того момента, пока его не поколебала вспыхнувшая в 1914 г. первая постмодернистская всеобщая война»>8. Сорок лет спустя, столкнувшись с угрозой третьей — ядерной — мировой войны, Тойнби пришел к выводу, что сама категория цивилизации, использованная им для описания развития человечества, перестала быть уместной. В каком-то смысле западная цивилизация — как непререкаемое главенство технологии — стала всеобщей; но как таковая она обещала только взаимное уничтожение всего и всех. Единственным безопасным выходом из состояния холодной войны было всемирное правительство, основанное на гегемонии единственной державы. Если же говорить о длительной перспективе, то будущее планеты могла спасти только новая всеобщая религия, необходимо синкретическая по своему характеру.
Шанхай — Ангкор — Юкатан
К тому моменту, когда схватка с коммунизмом всем стала представляться более чем вероятным исходом, теория Тойнби оказалась в изоляции — из-за недостаточности эмпирической базы для выводов, претендовавших на пророчества. После первичной полемики эту теорию быстро забыли, а вместе с ней забыли и то, что XX столетие уже было описано как эпоха постмодерна. Иначе обстояло дело с практически одновременным (даже несколько более ранним) появлением термина «постмодернизм» в Северной Америке. Чарльз Олсон в письме своему коллеге-поэту Роберту Крили упомянул о «мире постмодерна», пришедшем на смену эпохе географических открытий и индустриальной революции. Несколько позже он писал: «Первая половина XX века стала поворотным пунктом, после которого мы имеем дело с постмодерном, или пост-Западом»>9. В день, когда Эйзенхауэр был избран президентом, 4 ноября 1959 г. Олсон (если верить информации, якобы предоставленной им самим биографическому отделу «Авторов XX столетия») написал краткий манифест, начинавшийся словами «Моя корректива состоит в том, что я принимаю как пролог настоящее, а не прошлое», а заканчивался описанием «живого настоящего» как «постмодернистского, постгуманистического и постисторического»>10.
Смысл этих терминов становится понятен благодаря другому поэтическому проекту. Прошлое Олсона было тесно связано с «новым курсом» Рузвельта. В ходе четвертой президентской кампании Рузвельта Олсон занимал должность руководителя иностранного отдела при Национальном комитете Демократической партии. В начале 1945 г. после победы демократов на выборах, он отдыхал со своими коллегами в Ки-Уэсте, ожидая назначения в новой администрации. Именно тогда его жизнь внезапно и радикально изменилась: он начал работать над эпосом «Запад», охватывающим по замыслу всю историю западного мира — от Гильгамеша (впоследствии — Одиссея) до современной Америки, написал поэму, изначально называвшуюся «Телеграмма», и ушел из политики (при этом он, правда, продолжал занимать активную политическую позицию, поскольку «важней всего дела людей»). Вернувшись в Вашингтон, Олсон писал о Мелвилле и защищал Паунда; кроме того, он помогал Оскару Ланге (другу с военных времен, ставшему теперь послом Польши при ООН), отстаивая в Администрации интересы нового польского правительства. Потрясенный атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, он в качестве делегата съезда демократической партии выступил в 1948 г. против повторного выдвижения Трумэна на президентский пост
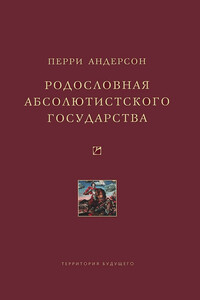
Политический характер абсолютизма на протяжении долгого времени был предметом споров среди историков. Развивая идеи, выдвинутые в предыдущей работе («Переходы от античности к феодализму»), выдающийся англо-американский историк Перри Андерсон рассматривает обстоятельства возникновения абсолютистских монархий из кризиса феодализма. Отталкиваясь от тезиса о том, что абсолютистские монархии представляли собой попытку воссоздания феодального государства для защиты интересов правящего класса, автор прослеживает пути различных стран — Испании, Франции, Англии, Италии, Швеции, Пруссии, Польши, Австрии, России, исламского мира и Японии — к рождению национальных государств.
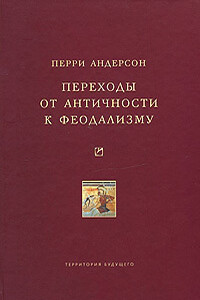
«Работа Андерсона и сегодня считается непревзойденной по ее основному замыслу и охвату – выявить политэкономические структуры Античности и проследить их конфликтную динамику от возникновения полисной общины через три имперских цикла (афинский, эллинистический, римский) через Темные века до начала Средневековья. Читать Перри Андерсона по-русски надо не из превратной ностальгии по истмату, а именно для того, чтобы понять, какие варианты истмата у нас не могли получить развития в те самые подавленно-застойные семидесятые, за которые мы продолжаем расплачиваться и сегодня.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга П. Андерсона призывает читателя к глубокому переосмыслению классического марксистского наследия, раскрывает и объясняет его теоретические слабости и просчеты. Автор подводит к мысли о том, что далеко не всякий план освобождения человечества совпадает с установлением социалистического строя, ставит под сомнение связь между практикой и долгожданной свободой. Представляется, что, ознакомившись с его анализом творчества Лукача, Корша, Грамши, Адорно, Маркузе, Беньямина, Сартра, Альтюссера, Делла Вольпе, Коллетти и других, читатель задумается, о чем больше эта книга: о парадоксах развития западного марксизма 70-х годов или о парадоксе марксизма как социально-экономической системы. Для специалистов и широкого круга читателей.
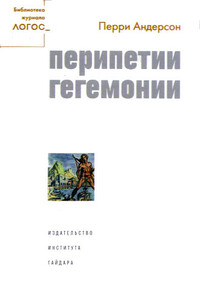
Гегемония — одно из тех редких слов, которые широко используются в литературе по международным отношениям и политологии, но при этом среди исследователей нет согласия относительно их точного значения. В первом полноценном историческом исследовании понятия «гегемония» известный британский историк Перри Андерсон прослеживает его истоки в Древней Греции, повторное открытие во время волнений 1848-1849 годов в Гер-мании, а затем причудливую судьбу и революционной России, фашистской Италии, Америке времен холодной войны, тэтчеровской Британии, постколониальной Индии, феодальной Японии, маоистском Китае, вплоть до мира Меркель, Мэй, Буша и Обамы.

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.