Истоки - [2]
К этим «немногим» принадлежит и Ярослав Кратохвил. Но каким мучительным, тяжким, сложным и при всем том захватывающим был процесс, сформовавший судьбу этого человека и художника!
Одно обстоятельство, отмеченное Вацлавеком, когда он характеризует общий удел всего этого поколения, особенно примечательно для Кратохвила: именно это самое непрестанное опоздание, задержки, нарушение плавного творческого размаха. Так, первые пять рассказов Кратохвила «Деревня» были написаны до войны, где-то в 1912–1913 годах, но увидели свет лишь одиннадцать лет спустя! Много позже Кратохвил с горьким юмором вспоминает об этом в одном интервью [5], называя свою «Деревню» «робким литературным зондом», изданным им только в 1924 году по той же, лишь слегка исправленной рукописи, которую ему «накануне войны» вернул издатель из своего «богатого склада, нечитаной, нетронутой и, кажется, даже не развязанной».
Эта книжка, плод глубокого знания деревни, — знания, полученного Кратохвилом благодаря его профессии [6], — выдержала испытание временем, потому что выходила за рамки обычного у нас в ту пору типа литературы о деревне. Он не идеализирует деревню, не воспринимает се как некую идиллию. Он подходит к ней и не как фольклорист, от которого нетронутые в своей естественности черты деревенской жизни заслоняют страшную ограниченность и пустоту «мира эгоистичных, отгородившихся от всего изб». Уже в этом первом произведении Кратохвила, которого Вацлавек очень точно называл «психологическим реалистом», Мария Пуйманова подметила особый «физиологизм и исповедничество», а в том, как автор «Деревни» «критикует изуродованную жизнь с раненой нежностью», она усмотрела его близость «к русской классической прозе».
И молодой еще тогда Юлиус Фучик приветствовал [7] «ритмическую прозу, прекрасный чистый язык и высокую культуру речи» этой книги и талант Кратохвила — «суровый, природный, беспощадно-откровенный и непосредственный». В заключение своей рецензии Фучик высказывает суждение, сходное с мнением Пуймановой: «Кратохвил… уже в этих рассказах обнаруживает веру, которую отчасти присваивает и своим героям: веру в какое-то неведомое освобождение деревни, и она притупляет остроту безнадежности деревенской жизни. Эта вера — не последнее, что роднит Кратохвила с русскими писателями».
Сам Кратохвил, который в предисловии к первой своей книге заметил, что «в нашем мире нет, в сущности, ничего, кроме такой деревни», дополняет эту мысль в предисловии ко второму изданию (1936): «Ныне в одной части света уже есть больше, чем такая деревня. Теперь я вполне убежден, что меняется сама сущность старого мира».
Мировая война захватила врасплох автора первой, неизданной, книги и втянула его в круговорот огня, железа и крови — как и тысячи чехов и словаков, которым пришлось служить в армии ненавистной австро-венгерской монархии. Переживания чешского офицера, возмущение, ирония, ужас и гнев заключены в письмах Кратохвила, в его военных дневниках и в нескольких рассказах, написанных на этом материале и вышедших после войны в журналах [8].
«Не хочется даже писать, какой-то общий упадок духа, все опротивело. Одно только желание кричит, вопит в глубине сердца: «Мир! Мир! Мир!» — записывает Кратохвил в мае и июне 1915 года. Или в другом месте: «Торжество недоучек, владычество ограниченности, страшная власть безответственных безумцев. Кто их будет судить? Неужели и они будут судить после этой бойни? Не может быть, не может быть». В таком настроении находился Кратохвил, когда (в июне 1915 г.) попал на галицийском фронте в плен, вырвавший его из урагана войны. Затем — разные лагери военнопленных, где начинается дифференциация. «Чехи в Австрии… бездомная нация… снимающая угол в бывшем собственном доме», — пишет Кратохвил в одной неопубликованной при его жизни статье [9].
Кто были эти пленные чехи из австрийской армии? — «Угловато-решительные рабочие, ремесленники, Легкомысленные студенты, учителя, журналисты, рассудительные крестьяне, служащие. Сплошь почитатели Гуса, Жижки и Гавличка. Это были не обычные националисты. Там против старых немецких монархий соединились и республиканцы, и демократы, и социалисты, и даже анархиствующие национал-социалисты…»
В этих людях жило и нескрываемое русофильство, основанное на «семейных легендах… о могущественном дядюшке из восточной славянской Америки», то наивное русофильство, которое было «единственной гордостью обедневшей чешской родни». Вот почему чехи в лагерях гордо заявляли: «Мы не австрияки! Мы — военнопленные чехи!» И по той же причине на первых порах плена даже «Марсельеза» укладывалась в сердцах чешских пленных рядышком с. «Боже, царя храни», так как они гордились «богатой русской родней». Только этот «богатый дядюшка не знался, да, скорее всего, и не хотел знаться родством со своими австрийскими родственниками». Мятежный дух в чехах естественным образом обратился прежде всего против австрийского духа среди офицерства и против обавстриячившихся чехов. И это нескрываемое русофильство чехов, простодушно выражавшееся в пении царского гимна или даже в крещении по православному обряду (в чем, видимо, находила выход ненависть к коалиции габсбургской монархии с католичеством, Вены с Римом), представлялось австрийскому офицерству позором, более того — прямым бунтом и государственной изменой.
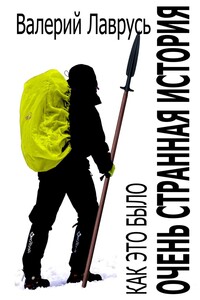
Попаданец Юра Серов познакомился со странными профессорами-историками и попал в историю. В очень странную историю, где реальность переплетается с вымыслом, а вымысел так и норовит стать неоспоримой истиной. Как разобраться? Как понять, что в Истории ложь, а что — правда? Как узнать, где начинается сказка, а где она заканчивается? Просто! Надо поставить мысленный эксперимент!
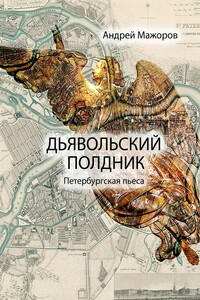
4833 год от Р. Х. С.-Петербург. Перемещение в Прошлое стало обыденным делом. Группа второкурсников направлена в Петербург 1833 года на первую практику. Троицу объединяет тайный заговор. В тот год в непрерывном течении Времени возникла дискретная пауза, в течение которой можно влиять на исторические события и судьбы людей. Она получила название «Файф-о-клок сатаны», или «Дьявольский полдник». Пьеса стала финалистом 9-го Международного конкурса современной драматургии «Время драмы, 2016, лето».
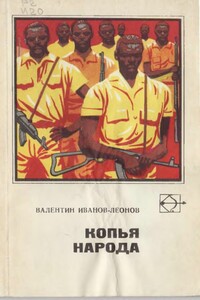
Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.
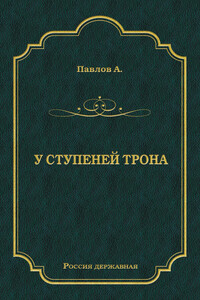
Александр Петрович Павлов – русский писатель, теперь незаслуженно забытый, из-под пера которого на рубеже XIX и XX вв. вышло немало захватывающих исторических романов, которые по нынешним временам смело можно отнести к жанру авантюрных. Среди них «Наперекор судьбе», «В сетях властолюбцев», «Торжество любви», «Под сенью короны» и другие.В данном томе представлен роман «У ступеней трона», в котором разворачиваются события, происшедшие за короткий период правления Россией регентши Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны.

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.