Исповедь Зоила - [14]
В Сосновке даже палисадников у домов нет — незачем их ставить, все равно временное жилье. На бивуаке не живут, на бивуаке пережидают. Бивуак — отдых в пути, становище на дороге. Его ставят на день, на два, а не навечно. Вот почему Афоня — тоже мужик из Егоровки — хотел бы поставить памятник своей исчезнувшей под водой деревне — памятник прямо на воде. Чтоб хоть какой-то знак был о былом ее существовании.
Но с Афоней у Ивана Петровича особый спор. Для Афони жизнь — это прежде всего честная работа на своем месте. Что делается за пределами этой работы — чужая печаль. Для Ивана Петровича все не так.
Один как перст стоит он против шайки архаровцев, один он в Сосновке, как называет его Сашка Девятый, «законник». Ему мало самому хорошо работать, он жаждет, чтоб и общая жизнь была по совести. Все его попытки помешать шайке Девятого вершить власть над Сосновкой кончаются тем, что шайка мстит ему — мстит обыкновенно, по-уголовному. То проколют шины у его автомобиля, то насыплют в карбюратор песок, то изрубят тормозные шланги к прицепу, то выбьют стойку из-под балки, которая чуть не убьет Ивана Петровича.
Что делать — сдаваться или уезжать? Оставлять свою родину на потраву архаровцам или все-таки встать им поперек горла, не пустить эту заразу дальше да и самому не опуститься, сдавшись?
Эти вопросы решает герой Распутина. «И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?»
Склады горят, а Иван Петрович думает. Он не только рассуждает, а таскает беспрестанно то мешки с мукой, то мешки с сахаром, он теряет силы, чтоб спасти что-то из общего добра, но мысль его забегает дальше пожара, она смотрит в те дни, что подготовили этот пожар, и туда, куда не хотелось бы заглядывать, а надо.
К месту или не к месту всплывают в его голове цифры погибших в войну и после войны. Да что там после войны — в последние четыре года. «Недавно директор школы... учительствовавший еще в Егоровке, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну и сколько его сгинуло не своей смертью в последние четыре года. Не своей смертью — это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал: вот те и мирное время!»
Удивишься, ахнешь. Кто учел эти цифры, кто их запланировал? И есть ли у нас «план на души», спрашивает Распутин. Спрашивает, не стесняясь подставить себя на место Ивана Петровича.
Иван Петрович, «жизнь свою отдавший плану», думает, что «план» обезлесил тайгу. Всюду зияют пустоты, тайга — как лысая голова. Зачем был нужен такой «план»? Зачем нужно выдавать на-гора сто планов, когда лучше хорошо выполнять один — но стоящий, настоящий? Зачем эти рекорды и превышения, когда после них остаются одни пустоши, как на вырубленных лесосеках?
Или «достаток». Гнались за этим достатком, как за жар-птицей. Пришел он, и веселей не стало. Достатком не наешься, достатком сыт не будешь. Не хлебом единым жив человек.
«Человек, — пишет Распутин, — окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое, происходящее из себя, а не из одного лишь хвать-похвать, что-то причинное и контролирующее, заставляющее достаток стыдиться вопреки себе полной своей коробушки».
Что же это причинное и особое? Никакого секрета тут нет. Это особое и причинное — верность правде, верность правде не наполовину, не на три четверти, а целиком и полностью. «Правда — это река, — размышляет герой Распутина, — ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами».
При такой правде неспокойно жить. При такой правде нужны кремневость характера, сила, вера и убеждения. Без идеи, без убеждений, которые оправданы жизнью и поступками, такой правды не приобрести. Ее ниоткуда не получишь, не импортируешь. Она должна произрасти в душе, она так же принадлежит месту твоего рождения, как твой дом и твои родители.
У правды, короче говоря, есть родина.
А то получается, рассуждает Иван Петрович, что у нас «хороший человек» уже тот, «кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает». Уже молчание стало доблестью, которая ценится как самое высокое геройство. А о сопротивлении плохому нет и речи. «Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр».
Это падение высоты правды и правды поведения в условиях столкновения добра и зла точно ухвачено Распутиным. Так, на пожаре все смотрят, как дядя Миша Хампо один не дает архаровцам разграбить складские вещи. Этот поединок наблюдают жители Сосновки, как будто это не борьба не на жизнь, а на смерть (и кончается она смертью дяди Миши и его противника), а бой на кулачках в праздник.

Имя Гоголя стоит в истории русской литературы вслед за именем Пушкина. Гоголь – продолжение Пушкина и начало новой эпохи в художественном создании России XIX века. Автор этой книги рассматривает Гоголя не только как писателя, но и как мыслителя, в судьбе которого так или иначе отразилась судьба литературы и общественной мысли того времени. Автор использует малоизвестные материалы о Гоголе, опирается на документы, черновики и рукописи писателя, а также на неизданную переписку его современников.
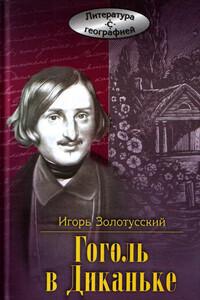
Знаменитый исследователь жизни и творчества Н. В. Гоголя Игорь Золотусский приглашает в увлекательное путешествие по местам великого писателя. Это Васильевка, Диканька, Сорочинцы на его родной Украине, Петербург, Рим, Москва… По своей натуре Гоголь был путником, любил дорогу, в частых поездках чувствуя себя как дома. В дороге происходит действие и многих его произведений, начиная с «Сорочинской ярмарки» и заканчивая «Мертвыми душами». «Ну, любезные», – с этими словами на последних страницах поэмы садится в свою коляску Чичиков, покидая губернский город NN.

Автор — известный критик и исследователь Гоголя. В собранных здесь статьях он вводит читателя в художественный мир гениального русского писателя. Заново прочитывая произведения Гоголя — «Ревизор», «Мертвые души», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Тарас Бульба», пересматривая некоторые устоявшиеся в критике взгляды, автор как бы приглашает читателя к спору.
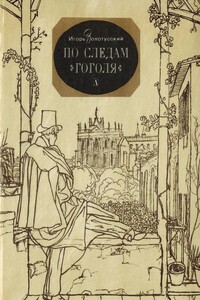
«Гоголь часто называл себя путником, странником и считал своим домом дорогу. Он действительно много путешествовал, но все-таки есть несколько мест на земле, которые были для него не только временным отдыхом в пути. Гоголя нельзя представить без Васильевки, без Диканьки, Сорочинец, без Петербурга, где он стал писателем, без Рима, Москвы... Мир Гоголя — это не только внутренний мир, но и мир вокруг него, живые черты тех мест, которые помнят его» — так сам автор определяет содержание книги.
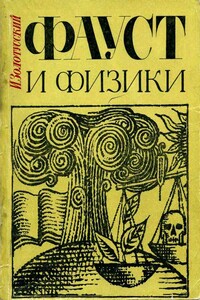
«…эта книжка о «старом» Фаусте и о «новых» физиках. Физики, конечно, занимают в ней меньшее место. Меньшее — по количеству раз, где упоминается слово «физики». Но эта книжка — о них. Я перечитал «Фауста», помня о них».

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
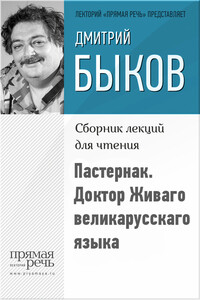
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.
