Исповедь убийцы - [41]
Я поехал к Лютеции. На улице я почувствовал, что слишком много выпил. Повсюду я видел поющих, возбужденных людей со знаменами, взволнованных ораторов, плачущих женщин. Как вы знаете, тогда в Париже застрелили Жореса. Все, что я видел, конечно, означало войну. Но я был настолько погружен в свои мысли, что ничего не понимал, такой себе подвыпивший дуралей.
Я был готов сказать, что обманывал ее. Раз уж я решил быть порядочным, ничто не могло меня удержать. Я упивался своей порядочностью, как раньше — злодейством. И лишь намного позже я понял, что подобный дурман не держится долго, это невозможно. Добродетель — вещь трезвая.
Да, я хотел во всем исповедаться, хотел — и это представлялось мне таким трагичным — унизить себя перед любимой женщиной, чтобы потом навсегда с ней проститься. Достойное, смиренное отречение казалось мне в тот момент куда возвышенней напускного аристократизма, и даже выше страсти. Если все это время я был героем, достойным сожаления, то с этого момента я хотел стать страдающим, униженным, безымянным, но настоящим героем.
В этом состоянии, если можно так выразиться, торжественной угрюмости я шел к Лютеции. Это было время, когда она меня ждала. Я открыл дверь и удивился, что в прихожей, вопреки обыкновению, навстречу мне не вышла горничная. Все двери были открыты. Мимо противного попугая и остального зверья надо было пройти в освещенный салон, а потом через туалетную комнату в нежно-голубую спальню, которую Лютеция, как правило, называла будуаром.
Не знаю почему, но я медлил, шел осторожнее, чем обычно. Дверь, ведущая в спальню, была прикрыта. Я нерешительно отворил ее.
Лютеция лежала рядом с мужчиной, ее голова покоилась на его руке. И, как вы могли уже догадаться, это был молодой Кропоткин. Казалось, они оба так крепко спали, что не слышали, как я вошел. На цыпочках я приблизился к кровати. О, в мои планы совсем не входило устраивать сцену. Представшее передо мной зрелище в тот момент причинило мне сильную боль, но это не было ревностью. Эта боль, учитывая то героическое настроение, в котором я пребывал, была чуть ли не желанной. Она в какой-то мере подтверждала мой героизм и укрепляла принятые мною решения. Собственно говоря, я намеревался потихоньку их разбудить, и, пожелав обоим счастья, обо всем рассказать. Но получилось так, что Лютеция проснулась, истошно закричала и, конечно, разбудила Кропоткина. Он сел прежде, чем я успел что-то сказать. На нем была ярко-синяя шелковая пижама, открывавшая голую грудь. Это была бледная, слабая, безволосая юношеская грудь. Грудь мальчика. И я не знаю, почему, но в тот момент меня это сильно разозлило.
— А, Голубчик, — потирая глаза, сказал он, — вы еще до сих пор не уехали? Разве мой секретарь не рассчитался с вами окончательно? Подайте мне пиджак и, сделайте одолжение, возьмите мой бумажник.
Лютеция молча глядела на меня. Наверняка она уже обо всем знала.
Поскольку я не шевелился и продолжал с грустью смотреть на князя, он, по своей дурости, принял этот взгляд за наглый вызов с моей стороны и внезапно зарычал:
— Вон отсюда! Наемный стукач, негодяй! Вон!
А так как в этот же самый момент я увидел, что совершенно обнаженная Лютеция, приободрившись, выпрямилась, то, вопреки всем намерениям, хотя я не ощутил никакого плотского вожделения при виде обнаженной женщины (по тупому мужскому разумению вообще-то принадлежавшей мне), во мне проснулась страшная ярость.
Голая Лютеция совершенно сбила меня с толку, а в мой мозг, мою кровь, возбуждая ненависть, врезалось только одно слово: «Голубчик!». И громче князя я завопил ему прямо в лицо:
— Голубчиком зовут не меня, а тебя! Кто знает, с каким голубчиком спала твоя мать! Никто этого не знает. А с моей мамой спал старый Кропоткин. И я — его сын!
Тут этот хлюпик вскочил и схватил меня за горло. Без одежды он казался еще слабее. Его нежные руки не могли обхватить мою шею. Я толкнул его, и он повалился на кровать.
Отныне я не соображал, что творил. Я и сейчас еще слышу пронзительный крик Лютеции. Я вижу, как она, абсолютно голая, соскочила с кровати, чтобы защитить этого типа. Больше я не владел собой. В моем кармане лежала тяжелая связка ключей, к которой был прикреплен железный замок. Этот замок в целях безопасности я иногда вешал на свой чемодан, когда в нем лежали особо важные документы. Теперь у меня не было никаких важных документов. Я больше не был сыщиком. Я был порядочным человеком. Меня спровоцировали, меня вынудили совершить убийство. Не сознавая, что делаю, я полез в карман. Я ударил по голове Кропоткина и Лютецию. До того часа я еще никогда никого, будучи разъяренным, не бил. Я не знаю, что бывает с другими, когда их охватывает ярость. Со мной, друзья мои, было так, что каждый новый удар приносил мне до тех пор неведомую радость. В то же время мне казалось, что эти удары приносят радость и моим жертвам. Я бил, бил — и мне, друзья мои, не стыдно об этом говорить.
Тут Голубчик встал со стула, и все, кто его слушал, посмотрели вверх, на его лицо. Оно становилось то бледным как полотно, то фиолетовым. Несколько раз он обрушил свои кулаки на стол с такой силой, что, жалобно опрокинувшись, на пол покатились до половины наполненные шнапсом стаканы, и хозяин поспешил от этой участи спасти графин. Он тоже взволнованно наблюдал за Голубчиком, тем не менее, в силу своего положения, сохранял присутствие духа. Сначала Голубчик закрыл глаза, потом открыл. Видно было, как дрожали его веки, а тонкий след слюны образовал вокруг посиневших губ подобие белого рубца. Да, так, должно быть, он выглядел тогда, в момент убийства. Теперь все мы знали — он был убийцей…

Впервые напечатанный в нескольких выпусках газеты Frankfurter Zeitung весной 1924 года, роман известного австрийского писателя и журналиста, стал одним из бестселлеров веймарской Германии. Действие происходит в отеле в польском городке Лодзь, который населяют солдаты, возвращающиеся с Первой мировой войны домой, обедневшие граждане рухнувшей Австро-Венгерской империи, разорившиеся коммерсанты, стремящиеся уехать в Америку, безработные танцовщицы кабаре и прочие персонажи окраинной Европы.
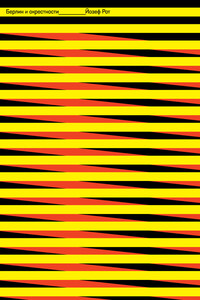
В сборник очерков и статей австрийского писателя и журналиста, составленный известным переводчиком-германистом М.Л. Рудницким, вошли тексты, написанные Йозефом Ротом для берлинских газет в 1920–1930-е годы. Во времена Веймарской республики Берлин оказался местом, где рождался новый урбанистический ландшафт послевоенной Европы. С одной стороны, город активно перестраивался и расширялся, с другой – война, уличная политика и экономическая стагнация как бы перестраивали изнутри его жителей и невольных гостей-иммигрантов.
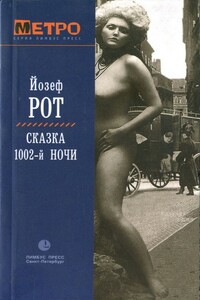
Действие печально-иронического любовного романа всемирно известного австрийского писателя разворачивается в декорациях императорской Вены конца девятнадцатого века.
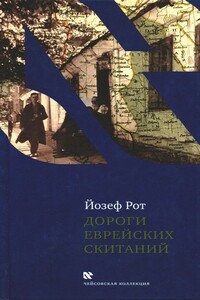
В 1926 году Йозеф Рот написал книгу, которая удивительно свежо звучит и сегодня. Проблемы местечковых евреев, некогда уехавших в Западную Европу и Америку, давно уже стали общими проблемами миллионов эмигрантов — евреев и неевреев. А отношение западных европейцев к восточным соседям почти не изменилось. «Автор тешит себя наивной надеждой, что у него найдутся читатели, перед которыми ему не придется защищать евреев европейского Востока; читатели, которые склонят голову перед страданием, величием человеческой души, да и перед грязью, вечной спутницей горя», — пишет Рот в предисловии.Теперь и у нашего читателя появилась возможность оправдать надежду классика — «Дороги еврейских скитаний» наконец выходят в России.
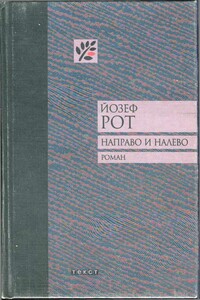
Йозеф Рот (1894–1939) — выдающийся австрийский писатель, классик мировой литературы XX века, автор знаменитых романов «Марш Радецкого», «Склеп капуцинов», «Иов». Действие романа «Направо и налево» развертывается в Германии после Первой мировой войны. В центре повествования — сын банкира, человек одаренный, но слабохарактерный и нерешительный. Ему противопоставлен эмигрант из России, практичный делец, вместе с тем наделенный автором романтическими чертами. Оба героя переживают трагическое крушение иллюзий.На русском языке роман издается впервые.

Одно из самых известных произведений знаменитого австрийского писателя. Герой романа Мендл Зингер, вконец измученный тяжелой жизнью, уезжает с семьей из России в Америку. Однако и здесь, словно библейского Иова, несчастья преследуют его. И когда судьба доводит Зингера до ожесточения, в его жизни происходит чудо…

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.
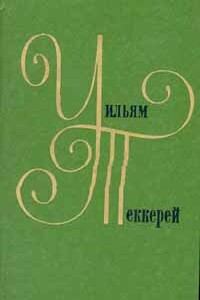
Что нужно для того, чтобы сделать быструю карьеру и приобрести себе вес в обществе? Совсем немногое: в нужное время и в нужном месте у намекнуть о своем знатном родственнике, показав предмет его милости к вам. Как раз это и произошло с героем повести, хотя сам он и не помышлял поначалу об этом. .
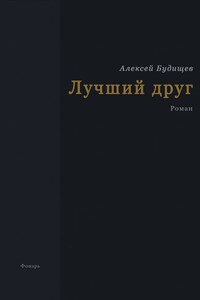
Алексей Николаевич Будищев (1867-1916) — русский писатель, поэт, драматург, публицист. Роман «Лучший друг». 1901 г. Электронная версия книги подготовлена журналом Фонарь.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. С ним все происходило не так, как обычно происходит с дурными мальчиками в книжках для воскресных школ. Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук.