Исповедь, которая облегчает - [2]
— Гм!.. Смешные, ей Богу, эти банкиры. Покажи-ка еще книжечку… Значит, ты сначала выдрал такой листочек, a потом уже подписал купцову фамилию.
— Ну, конечно! Ох, тошнехонько мне, братцы!.
— Выпей, преступная твоя душа. Вон, там твой стакан, на окне… Ну, теперь бери твою книжку. Да спрячь подальше. А то, брат, знаешь, не трудно и влопаться… Так все три тысячи, значит, у тебя и лежат?
— Все лежат, — вскричал кающийся Мохнатых, ударяя себя в грудь. — Ни копеечки не трогал!
— Н-да… Ну, ничего. Бог тебя простит. По крайней мере, теперь ты облегчился…
Полянский уже давно ревниво следил за интимным разговором Мохнатых с Вострозубовым.
Подошел к нему, обнял дружески за талию и шепнул:
— Ну, что, легче теперь? Нету больше грехов?
Тоскливо поглядел на него Мохнатых.
— Нету грехов? Это у меня-то? Да меня за мой последний грех повесить мало! Братцы! Вяжите меня! Плюйте на меня! Я чужую жену соблазнил!
— Какая мерзость! — ахнул Полянский, с презрением глядя на Мохнатых. — Хорошенькая?
— Красавица прямо. Молоденькая, стройная, руки, как атлас и целуется так, что…
— Мохнатых! — сурово вскричал Полянский, — не говори гадостей. И тебе не стыдно? Неужели, ты не подумал о муже, об этом человеке, которого ты так бесчеловечно обокрал?!.
— Жалко мне его было, — виновато пролепетал Мохнатых, опустив грешную голову. — Да что же делать, братцы, если она такая… замечательная…
— Замечательная?! А святость семейного очага?! А устои? Говори, как ее зовут.
— Да зачем тебе это… Удобно ли?
— Говори, развратник! Скажи нам ее имя, чтобы мы молились за нее в сердце своем, молились, чтобы облегчить ея и твой грех… Слышишь? Говори!
— Раба Божия Наталья ее зовут, — тихо прошептал убитый Мохнатых.
— Наталья? Бог тебя накажет за эту Наталью, Мохнатых. А по отчеству?
— Раба Божия Михайловна.
— Михайловна? Какой позор… Не спрашиваю ее фамилии, потому что не хочу срывать покрывала с тайны этой несчастной женщины… Но спрошу только одно: неужели у тебя хватало духу бывать у них дома, глядеть в глаза ее мужу?!
— Нет… Я больше по телефону… Уславливался…
— Еще хуже!! Неужели, раскаяние не глодало тебя?! Неужели, этот номер телефона, ужасный преступный номер — не врезался в твою душу огненными знаками?! Не врезался? Говори: не врезался?
— Врезался, — раскачивая головой, в порыве безысходного горя, прошептал Мохнатых.
— Ты должен забыть его! Слышишь? То, что ты делал — подло! 27–18?
— Что, номер? Нет… Хуже! Больше!
— Еще хуже? Еще больше? Какой же?
— 347-92.
— Ага… Наталья Михайловна… Так-с. Как же ты подошел к ней? Каким подлым образом соблазнил эту несчастную?..
— А я просто узнал, что за ней ухаживал Смелков. Встретил ее да и рассказал, что Смелков всюду хвастается победой над ней. Выдумал. Ничего Смелков даже и не рассказывал… А она возмутилась, прогнала Смелкова… Я и стал тут утешать ее, сочувствовать.
— Трижды подло, — рассеянно заметил Полянский, описывая что-то карандашом на обрывке конверта.
— Все грехи? — спросил Крутонов, разливая в стаканы остатки восьмой бутылки и набивая рот куличом. — Во всем признался?
— Кажется, во всем.
— Ну, вот видишь. Легче теперь?
— Кажется, легче.
— Ну, вот видишь! Говорил я, что мы тебя облегчим… И облегчим!
— Конечно, облегчим, — серьезно и строго подтвердил Вострозубов.
— Камень с души снимем, — пообещал Полянский.
— Все камни снимем! Камня на камне от твоих грехов не останется.
— Я пойду домой, родные, — попросился раскисший Мохнатых. — Спаточки мне хочется.
— Иди, детка. Иди. Бог с тобой. Если еще будут какие грехи — ты нам говори. Мы облегчим…
И умягченный, обласканный, облегченный, пошел Мохнатых домой, с тихой нежностью прислушиваясь к веселому, радостному звону пасхальных колоколов.

Как отметить новогодние праздники так, чтобы потом весь год вспоминать о них с улыбкой? В этой книге вы точно найдёте пару-тройку превосходных идей! Например, как с помощью бутылки газировки победить в необычном состязании, или как сделать своими руками такой подарок маме, которому ужаснётся обрадуется вся семья, включая кота, или как занять первое место на конкурсе карнавальных костюмов. Эти и другие весёлые новогодние истории рассказали классики и современники — писатели Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Н.
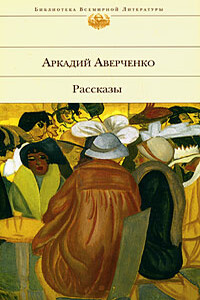
Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого серьезного читателя.В книгу вошли рассказы, относящиеся к разным периодам творчества писателя, цикл «О маленьких – для больших», повесть «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев…», а также его последнее произведение – роман «Шутка мецената».

Жанр святочных рассказов был популярен в разных странах и во все времена. В России, например, даже в советские годы, во время гонений на Церковь, этот жанр продолжал жить. Трансформировавшись в «новогоднюю сказку», перейдя из книги в кино, он сохранял свою притягательность для взрослых и детей. В сборнике вы найдёте самые разные святочные рассказы — старинные и современные, созданные как российскими, так и зарубежными авторами… Но все их объединяет вера в то, что Христос рождающийся приносит в мир Свет, радость, чудо…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Среди мистификаций, созданных русской литературой XX века, «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (1910) по сей день занимает уникальное и никем не оспариваемое место: перед нами не просто исполинский капустник длиной во всю человеческую историю, а еще и почти единственный у нас образец черного юмора — особенно черного, если вспомнить, какое у этой «Истории» (и просто истории) в XX веке было продолжение. Книга, созданная великими сатириками своего времени — Тэффи, Аверченко, Дымовым и О. Л. д'Ором, — не переиздавалась три четверти века, а теперь изучается в начальной школе на уроках внеклассного чтения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.