Искуситель - [7]
а целый свет знал, то есть все экономическое село и наша Тужиловка, что эти старые греховодники опивали порядком бедных крестьян и не давали никому суда и расправы иначе, как в кабаке за ведром вина, за которое, разумеется, не они платили деньги целовальнику. Вот, этак около полудня, зазвенел вдали колокольчик, через минуту забрызганный грязью капитан– исправник примчался на тройке обывательских к нашему крыльцу. Выборные отвесили ему вдогонку по низкому поклону, а заседатель кинулся, чтобы помочь своему начальнику выпрыгнуть из телеги, но не поспел: исправник, вылезая, зацепил второпях за колесо ногою, грянулся оземь и, лежа еще на боку, прокричал: «Его превосходительство изволит ехать!» Все пришло в движение: слуги бросились толпою к воротам, опекун мой вышел на крыльцо, и вся наша дворня, женщины, девки и даже малые ребятишки, – высыпали из застольной и людских, чтоб взглянуть, хотя мельком, на губернатора. Вот показалась его карета; помнится, позади ее стояли гусары, а впереди скакали двое казаков. Когда губернаторский экипаж приблизился к воротам, плешивый заседатель до того вытянулся, что вдруг стал целой головой выше обыкновенного; старики и выборные преклонили свои грешные головы ниже пояса, а самый-то главный из них, беззаконник и пьяница, сотник Вавила, пал на колени и прослезился от умиления. Капитан-исправник отворил дверцы кареты, я высунулся до половины из моего окна, но никак не мог рассмотреть хорошенько губернатора, а заметил только, что у него преогромный нос. Этот торжественный прием, подобострастие и почет, который оказывали губернатору, любопытство, с которым все желали его видеть, а более всего необычайный страх и трепет заседателя и выборных сильно подействовали на мое детское воображение; мне казалось, что начальник губернии должен быть существом совершенно особенного рода, и хотя я не мог в уме своем облекать всех знаменитых людей в образ нашего губернатора, потому что рассмотрел только его нос, но зато во мне укоренилась и долго не могла истребиться мысль, что каждый сановник должен быть непременно с большим носом.
Объяснив читателям причину моего удивления при виде двухэтажного губернаторского дома, я возвращаюсь снова к начатому рассказу.
Выехав на городскую площадь, мы тотчас повернули направо, и наша линея остановилась у крыльца большого деревянного дома, выкрашенного серой краской. Тут жил приятель Ивана Степановича, наш губернский предводитель, Алексей Андреевич Двинский. Мой опекун всегда у него останавливался, когда приезжал в город. Этот Двинский стоит того, чтоб я сказал о нем несколько слов. Он был видный собою и бодрый старик лет шестидесяти; человек справедливый, исполненный чести и готовый всегда и во всяком случае стать грудью за последнего дворянина своей губернии. Отличительной чертою его характера было необычайное добродушие, с некоторой примесью спеси, или, лучше сказать, чванства родового дворянина, у которого две тысячи душ крестьян, псовая охота, хор певчих и огромная роговая музыка, но эта слабость была в нем извинительна, он с таким простосердечием хвастался своим древним родом и богатыми поместьями, что, право, грешно бы было не только на него досадовать, но даже посмеяться, над его невинным чванством. Во всем городе один только Григорий Иванович Рукавицына, самый богатый помещик нашей губернии, не любил Двинского, – вероятно, потому, что видел в нем своего единственного соперника по богатству и открытому образу жизни. Этот Григорий Иванович Рукавицын не щадил ничего, чтобы уронить Двинского в общем мнении: давал чаще его обеды, вечера и наконец завел даже домашний театр, на котором играли – вы, верно, думаете: «Недоросля» или «Бобыля?»[9] Извините! «Дианино древо»[10] и «Редкую вещь». К нему ездил весь город, все дивились его Илюшке, который пел фистулою, и отдавали полную справедливость Дуняше, которая заливалась соловьем в бравурных ариях, но, несмотря на то, когда наступали дворянские выборы, Рукавицыну наклали черных шаров, а Двинского избрали единогласно губернским предводителем.
До открытия губерний Алексей Андреевич Двинский был воеводой в одном небольшом городке, потом, во время Пугачева, которого отдельные шайки возмущали народ и долго злодействовали в нашей губернии, он командовал небольшим отрядом улан. Чтоб это не сочли анахронизмом, я должен сказать, что так назывались в то время летучие конные отряды, составленные по большей части из дворовых людей. Так как в нашей стране вовсе не было тогда регулярного войска, то некоторые из богатых помещиков должны были прибегнуть к этому средству, чтоб приостановить хотя на время успехи пугачевской сволочи и держать в повиновении крестьян. Двинский оправдал вполне доверенность своих товарищей: он сделался в короткое время грозою мятежников, его строгая справедливость и удальство вошли в пословицу и одно имя наводило робость не только на бунтующих крестьян, но даже и на самых казаков шайки Пугачева. Не раз случалось, что появление его с несколькими уланами усмиряло целые селения. Я очень любил слушать, когда он рассказывал о своих партизанских подвигах; помню, однажды при мне, говоря, по своему обыкновению, протяжно и выговаривая все слова на о. Двинский рассказал один случай, который доказывает, как сильно действует на наш простой народ имя человека, известного своим удальством и справедливостью. «Это было так, под вечер, – говорил он. – Я стоял по ею сторону Суры, а на той высыпало из села сотни две бунтовщиков. Вот кричат из-за реки: «Алексей Андреич, покорись!» – «Не покорюсь вам, злодеи!» – «Эй, Алексей, сдайся! Худо будет!» – «Не сдамся вам, разбойники! Постойте, постойте – вот я вас!» Со мной было всего-навсего человек пять улан, – да что тут думать – смелым бог владеет! бух прямо в реку, вплавь. Лишь только я выбрался с моими уланами на берег, да паф из пистолета. Эге! Гляжу, мужички-то мои и оробели. «Кто против нашей матушки встает? Говори!» – зыкнул я во все горло – они всем миром и бряк на колени. «Виноваты, батюшка Алексей Андреевич! Глупость наша такая – помилуй!» – «Вот я вас помилую!.. Постойте-ка, постойте! Есть ли у вас большой сарай на господском дворе?» – «Есть, кормилец». – «Так сберитесь же туда все от мала до велика и держите себя под караулом – слышите?» – «Слышим, батюшка». – «Мне некогда с вами возиться, надобно еще у соседей ваших побывать. Завтра опять к вам буду» – «Слышим-ста, батюшка! Только помилуй!» – «А вот посмотрю, утро вечера мудренее. Кого надо повесить – повешу, кого помиловать – помилую. Ну, что ж, стали! Ступай, говорят, да у меня смотри – караулить себя хорошенько» – «Ста нем караулить, родимый!» – «Ну, то-то же! Ждите меня завтра чем свет». – «Будем-ста ждать, батюшка, только по милуй!»
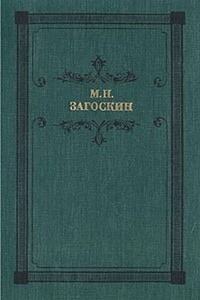
Исторический роман «Аскольдова могила» рассказывает о времени крещения Киевской Руси. Произведение интересно не только ярким сказочно-фантастическим колоритом, но и богатым фольклорным материалом, что роднит его с известными произведениями Н.В.Гоголя.Вступительная статья Ю.А.Беляева.

Действие романа происходит в XVII веке, в годы, которые вошли в историю России как одна из ярких страниц борьбы за ее независимость. Вымышленные происшествия романа «без насилия», по словам А.С.Пушкина, входят «в раму обширнейшую происшествия исторического». Заметное место в романе отведено таким событиям, как организация нижегородского ополчения по главе с Кузьмой Мининым и Д.М.Пожарским, освобождению Москвы от интервентов в 1612 году и другим.

Действие романа Михаила Николаевича Загоскина (1789-1852) «Рославлев» происходит во времена Отечественной войны 1812 г. В основе его лежит трагическая история отношений русского офицера Владимира Рославлева и его невесты Полины.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.
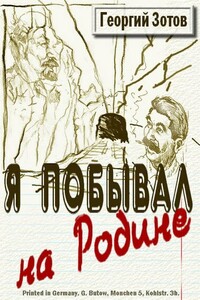
Второе издание. Воспоминания непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.Г. Зотов родился в 1926 году в семье русских эмигрантов в Венгрии. В 1929 году семья переехала во Францию. Далее судьба автора сложилась как складывались непростые судьбы эмигрантов в период предвоенный, второй мировой войны и после неё. Будучи воспитанным в непримиримом антикоммунистическом духе. Г. Зотов воевал на стороне немцев против коммунистической России, к концу войны оказался 8 Германии, скрывался там под вымышленной фамилией после разгрома немцев, женился на девушке из СССР, вывезенной немцами на работу в Германии и, в конце концов, оказался репатриированным в Россию, которой он не знал и в любви к которой воспитывался всю жизнь.В предлагаемой книге автор искренне и непредвзято рассказывает о своих злоключениях в СССР, которые кончились его спасением, но потерей жены и ребёнка.
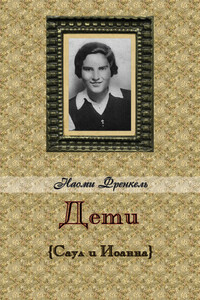
Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма.
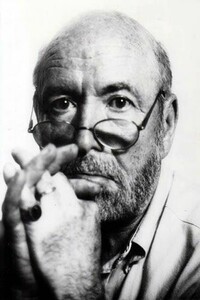
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.

