Искренность после коммунизма. Культурная история - [12]
Другие теоретические вопросы и подходы я предпочитала обходить. Так, например, я не касаюсь интригующей задачи исследования постсоветской искренности с точки зрения естественных наук, и неврологии в особенности. Хотя я с оптимизмом смотрю на перспективы неврологических исследований в области гуманитарных наук, я все же согласна с коллегами, полагающими, что на современном этапе «историкам эмоций не стоит бездумно заимствовать методы у естественных наук»[91]. В данном исследовании я решила не обращаться и к когнитивным методам. Другая грань проблемы, которой в данной работе почти не уделяется внимания, — это гендерный аспект. Литераторы, к творчеству которых я обращаюсь, в подавляющем большинстве мужчины, и потому ответ на важный вопрос о том, как выстраивается и воспринимается риторика искренности в высказываниях мужчин и женщин, здесь не дается. Упомяну и последнюю проблему, не получившую должной разработки: это вопрос о взаимодействии дискурса новой искренности и религии.
Религиозные, гендерные и когнитивные аспекты проблемы искренности весьма существенны, однако в данной книге я изучаю три других аспекта, с особой силой проявившиеся в собранном мной эмпирическом материале. Они отражают три стороны общественной жизни, о которых особенно ожесточенно спорят в посткоммунистической России, и им стоит уделить внимание в этом вводном обзоре: это коллективная память, коммодификация и (новые) медиа.
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ИСКРЕННОСТЬ: ИСКРЕННОСТЬ И ПАМЯТЬ
В первом из трех указанных выше аспектов переплетены литература, история и память. Как соотносятся в постсоветской России разговоры о новой искренности с несмолкающими спорами о недавнем прошлом? Что эти вопросы взаимосвязаны, не подлежит никакому сомнению. Российская полемика о постпостмодернистской или позднепостмодернистской искренности ведется в эпоху всепроникающего общественного напряжения, связанного с крушением Советского Союза и последствиями этого события. Постсоветская эпоха — не просто фон, на котором ведутся дебаты о возрождении искренности; она сама по себе представляет один из ключевых вопросов этих дебатов. Искренность по традиции относят к сфере личных, задушевных чувств. Однако, обсуждая новоявленную искренность, российские писатели, критики и исследователи с готовностью прибегают к социально-политической и исторической терминологии. Они охотно относят понятие (не)искренности к определенным историческим или политическим группам: например, приписывают лицемерие советским руководителям или нынешним правителям России.
Показательной для этой манеры приписывать искренность конкретным социальным слоям — и отрицать ее наличие у других — оказывается трактовка «новой искренности» Кириллом Медведевым. Поэт и политический активист указывает на президента Путина, белорусского лидера Лукашенко и российскую блогосферу как на воплощения культурного менталитета, который царил в России в 2000‐х годах. В этой «новой искренности» бессовестный политический пиар сочетается с потребностью неопосредованного выражения[92]. Новое эмоциональное состояние определяется недавней историей: Медведев рассматривает современную искренность как «инструмент», с помощью которого можно «вскрыть» существующие культурные дискурсы, включая «грубо идеологизированный советский» дискурс[93].
Одним словом, Медведев видит в «новой искренности» терапевтическое средство, позволяющее справиться с исторической травмой. Он не одинок в убеждении, что искренность может оказаться полезным инструментом для обращения с недавней историей. Подобный взгляд получил широкое распространение в России еще с начала перестройки, — а убеждение во взаимосвязи искренности и памяти развивалось и в другие эпохи и в других контекстах. В первой главе мы увидим, что традиция рассматривать искренность как творческую альтернативу лицемерному прошлому процветала среди российской творческой элиты 1950‐х — начала 1960‐х годов. Также мы увидим, что связанное с этой традицией стремление приписывать искренность определенным социокультурным группам восходит по крайней мере к началу эпохи модерна. В той же главе я проанализирую, как в 2000‐х годах многие исследователи в США и Европе связывали сдвиг к «постиронической» искренности с необходимостью преодоления травмы, возникшей после атак на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

В новой книге писателя Андрея Чернова представлены литературные и краеведческие очерки, посвящённые культуре и истории Донбасса. Культурное пространство Донбасса автор рассматривает сквозь судьбы конкретных людей, живших и созидавших на донбасской земле, отстоявших её свободу в войнах, завещавших своим потомкам свободолюбие, творчество, честь, правдолюбие — сущность «донбасского кода». Книга рассчитана на широкий круг читателей.
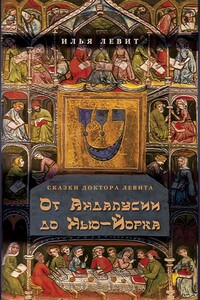
«От Андалусии до Нью-Йорка» — вторая книга из серии «Сказки доктора Левита», рассказывает об удивительной исторической судьбе сефардских евреев — евреев Испании. Книга охватывает обширный исторический материал, написана живым «разговорным» языком и читается легко. Так как судьба евреев, как правило, странным образом переплеталась с самыми разными событиями средневековой истории — Реконкистой, инквизицией, великими географическими открытиями, разгромом «Великой Армады», освоением Нового Света и т. д. — книга несомненно увлечет всех, кому интересна история Средневековья.
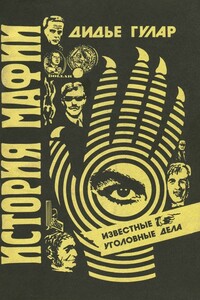
Нет нужды говорить, что такое мафия, — ее знают все. Но в то же время никто не знает в точности, в чем именно дело. Этот парадокс увлекает и раздражает. По-видимому, невозможно определить, осознать и проанализировать ее вполне удовлетворительно и окончательно. Между тем еще ни одно тайное общество не вызывало такого любопытства к таких страстей и не заставляло столько говорить о себе.
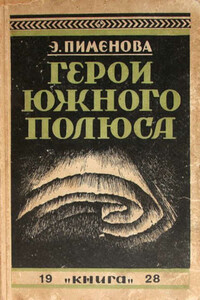
Южный полюс, как и северный, также потребовал жертв, прежде чем сдаться человеку, победоносно ступившему на него ногой. В книге рассказывается об экспедициях лейтенанта Шекльтона и капитана Скотта. В изложении Э. К. Пименовой.

Монография представляет собой исследование доисламского исторического предания о химйаритском царе Ас‘аде ал-Камиле, связанного с Южной Аравией. Использованная в исследовании методика позволяет оценить предание как ценный источник по истории доисламского Йемена, она важна и для реконструкции раннего этапа арабской историографии.
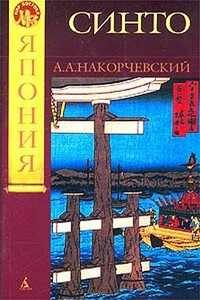
Слово «синто» составляют два иероглифа, которые переводятся как «путь богов». Впервые это слово было употреблено в 720 г. в императорской хронике «Нихонги» («Анналы Японии»), где было сказано: «Император верил в учение Будды и почитал путь богов». Выбор слова «путь» не случаен: в отличие от буддизма, христианства, даосизма и прочих религий, чтящих своих основателей и потому называемых по-японски словом «учение», синто никем и никогда не было создано. Это именно путь.Синто рассматривается неотрывно от японской истории, в большинстве его аспектов и проявлений — как в плане структуры, так и в плане исторических трансформаций, возникающих при взаимодействии с иными религиозными традициями.Японская мифология и божества ками, синтоистские святилища и мистика в синто, демоны и духи — обо всем этом увлекательно рассказывает А.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.