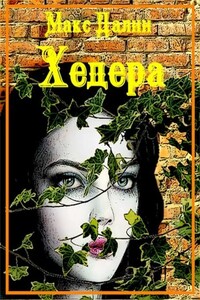Искра - [6]
Искра ему не мешал. Ночью настоящее вдохновение пришло: все чувства обострились, словно запахи в мороз. Вдохновение и не дало ему рядом с Копьём сидеть, глядеть, как он бубен нагретой кожей обтягивает. Вышел Искра из тордоха — и увидел медвежонка.
Не рискнул медвежонок подойти к тордоху — остановился шагах в десяти. А может, в ста — не разберёшь в сумерках: у них, келе, и расстояния не людские, и зрение другое, не привык ещё Искра. Но самую суть различить уже получилось.
Стоит медвежонок не на снегу, а над снегом — цепочка следов из тундры ведёт, не ямками, а тенями ямок. Смотрит медвежонок на Искру: морда, словно от голода, осунулась, худая-худая, нос высох — а глаза тёмным пламенем мерцают. Не звериные глаза и не человеческие.
Пошёл к нему Искра, да только никак дойти не может: медвежонок вроде бы и не двигается, а с каждым шагом — всё дальше. А взгляд у зверёныша печальный, жалобный, будто боится он чего-то.
Тогда Искра и подумал, что медвежонок-то — дедушкин. Все дети Ворона говорили: уехал дедушка Тихая Птица в Нижний мир, а медведей своих к нарте привязал, чтобы по тундрам не разбредались да на людей не нападали. Говорили — и косились на Искру, будто он должен был тех медведей забрать. Неужели отвязал дедушка одного медвежонка? Самого маленького? Может, посмотреть решил, что Искра с ним делать станет?
Может, и испугался бы Искра, если бы не выгнал вчера сильную тварь, злобную и чужую. Может, и испугался бы, если бы Копьё ему бубен не делал. Но после той твари — что Искре сумеречный медвежонок, маленький келе! Словно бы Копьё Искре на ухо сказал: смотри, он сам тебя боится. Одна видимость, что медвежонок — силёнок-то у него не больше, чем у евражки. Брошенный он, голодный — и в Срединном мире ему одиноко и тяжко.
Пожалел Искра медвежонка.
— Эй, — позвал, — маленький келе! Подойди ко мне — поесть тебе дам.
Повёл медвежонок пересохшим носом — и подтёк к тордоху, словно струйка позёмки. Снизу в глаза Искре заглянул — просяще, будто больная собака — а в глазах у него сполохи плещутся, зелёные да синие. Морда от тех сполохов синеватая, неживая — да и не морда это вовсе, а снежные вихри, и весь медвежонок — пляшущие клубы метели; что их держит, рассыпаться не даёт — непонятно.
Впервые Искра видел выходца из Нижнего мира совсем рядом — хоть рукавицей дотронься. Жутко было смотреть.
Случись это в стойбище у Круглого озера — удрал бы Искра домой, к маме, и в полог бы забрался, чтобы забыть метельную нежить. Но на Песцовой реке не мог он удрать — стыдно было перед Копьём: взрослого из себя строил, сильного шамана, а страха своего победить не может, сердце в кулак сжимать не умеет. Рассердился на себя Искра и остался стоять.
Не хотелось ему снова мизинец прокусывать — больно. Но раз обещал — надо выполнять: всем известно, что больше всего любят неживые твари из Нижнего мира живую кровь, а уж шаманскую кровь — и подавно. И прокусил Искра палец ещё раз, протянул медвежонку красную каплю — как ягоду:
— Возьми, погрейся.
Обрадовался медвежонок. Сполохи в его глазах ярче вспыхнули — и улыбнулся он, словно человек. Высунул язык — скользкий и холодный, будто тонкая льдинка — и слизнул капельку. От его морозного дыхания вся ладошка у Искры онемела.
А медвежонок к ноге его привалился, словно пёс — и сердце у Искры сильно заколотилось, щекам жарко стало. Признал его медвежонок — кровь к душе Искры его привязала арканом.
Опустил Искра озябшую руку, потрепал медвежонка по секущему снегу, словно по мягкой шёрстке:
— Запомни, маленький келе, — сказал, — я тебя не обижу и теплом своим покормлю. Будешь со мной дружить — буду кормить тебя, вырастешь большой, никто тебя обидеть не сможет.
Потянулся медвежонок к Искре — словно сквозь малицу, сквозь рёбра и мясо ледяным носом его сердце понюхал. Жуткое было чувство — и сильное: собачье доверие веселит, доверие песца — льстит, доверие птицы, если на плечо она сядет — на крыльях поднимает, а уж если келе доверился — то видишь все семь тундр в сиянии небесного света у своих ног, словно снежную шкуру.
Но тут вышел из тордоха Копьё — и тут же пропал медвежонок из виду, в тенях растворился, в метели рассыпался, распался на снежную пыль, будто и не было его. Только и осталось у Искры, что холодок возле сердца — метка келе, амулет и клеймо.
Посмотрел Искра на Копьё, а Копьё сказал:
— Иди в тордох, а то совсем окоченеешь. Бубен-то твой почти готов. С собой его возьмёшь, когда в стойбище матери своей отправишься?
Вздохнул Искра — печально, да делать нечего.
— Прости меня, Копьё, — сказал. Заглянул охотнику в глаза снизу, как медвежонок-дух на него самого смотрел. — Не могу я сейчас к матери ехать, хоть и охота мне. Слишком там хорошо, а когда хорошо — не приходит мне вдохновение.
Усмехнулся Копьё.
— Ты уж выбери, что тебе надо: то оленье копыто просишь, то лунный рожок с неба стрелой сбить.
Хотел Искра обидеться, но уже кое-чему научился — рассмеялся:
— Пусть лунный рог у неба растёт — не нужен он мне. Учи меня, Копьё — а я слушаться буду и научусь, чему смогу. Мне тоже надо стать воином — хоть и другие следы я вижу. А если что странное заметишь — не сердись: сполохи это играют, глаза отводят.
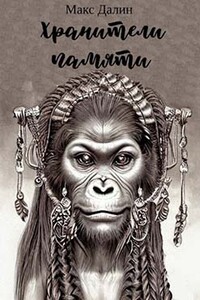
Классики правы: богом впрямь быть непросто. Особенно на чужой планете. Особенно — если инопланетяне похожи на людей Земли, как близкая родня…

Что думает герой, отправляясь на битву со злодеем, всем давно известно. А что в это время думает злодей? Тёмный властелин? Тот самый, кого мечтают убить бесчисленные рыцари?Жестокий тиран. Командир мёртвых легионов. Коварный интриган. Безжалостный убийца. Извращенец и насильник. Он вообще думает о чём-нибудь?Он — чёрный маг на троне. Он ночами строит козни и совершает чудовищные обряды. Он мечтает о чужих землях. Он водит шашни с выходцами из преисподней.Он — Дольф Некромант. О чём он может думать? В этой книге он расскажет об этом сам.

«Внутри каждого, наверное, живёт зверь. Только он не мерзкий, не низкий и не подлый… то есть, конечно, и такие бывают, но не в этих случаях. Зверь — просто зверь.».

Они пожирают нас. Они воруют наши чувства, наше время, наши души…И, может быть, только Вечность — настоящий Шанс спастись. Шанс первый, и последний, и единственный. Только Вечность. А что можно отдать за вечную жизнь? Душу? Кому нужна душа, выставленная на продажу… Совесть? А где она…А что у нас ещё есть? И с чем мы пойдём в эту Вечность? Как нам там будет — на пиру Вечных Князей и Хозяев Ночи?

Закари Ин ничего не знает о Китае. В школе преподают только западную историю и мифологию, а мама-китаянка не любит говорить о своем прошлом. Самое время пройти экспресс-курс, потому что маму Зака похитили демоны, которые пытаются открыть портал в подземный мир, а дух Первого императора Китая вселился в его очки дополненной реальности и комментирует все происходящее. Теперь у Зака есть всего четырнадцать дней до наступления Месяца Призраков, чтобы на пару с одним из самых печально известных тиранов в истории добраться до Поднебесной, украсть могущественные артефакты, сразиться за мир смертных и спасти маму.

Отправляясь хоронить надежды на самую бесперспективную окраину империи, Гайрон четвертый сын из дома Рэм даже не подозревает какую долю ему, на самом деле, уготовила безжалостная судьба. А пока он решает проблемы, бесполезной на первый взгляд провинции, империя начинает трещать по швам. Иллюстрации в произведении подобраны автором.

Пески и ветра, ифриты и джины, сокровища самого султана, и даже таинственный орден ашинов — полный тайн и загадок восток отнюдь не желает выпускать Ильдиара де Нота из своих жарких объятий. Чтобы вернуться домой, ему придется внимать голосам Пустыни и научиться играть по ее правилам. В то же время по следам отправленного в изгнание магистра отправляется его бывший оруженосец, а ныне — друг и соратник, сэр Джеймс Доусон, которому в его предприятии помогает старозаветный паладин Прокард Норлингтон. Но, на свою беду, рыцари делают остановку старом придорожном трактире, двери которого ведут вовсе не туда, куда бы хотелось его постояльцам. Теперь их путь лежит через Терновые Холмы — серый и безрадостный край, где живые люди лежат в присыпанных землей могилах, в небесах кружат желто-красные листья, а меж кустов колючего терна и цветущего чертополоха бродят опасные и вечно голодные твари…

Под полным контролем Джури и в абсолютном хаосе, Лила погружается в пучины ада, чтобы освободить Малачи от существ, которые десятилетиями жаждали мести. Но у Судьи своеобразный взгляд на ведение дел, и Лиле приходится работать на пару с Анной — новым капитаном, у которой очень личная миссия. Вместе они проникают в самое ужасное царство, с которым она когда-то встречалась в Царстве Теней — суровая местность, управляемая Мазикиными.Ставки как никогда высоки, и Лиле приходится принять помощь — и любовь — от людей, которых она едва ли знает или доверяет.

Сборник материалов по миру Вольного Флота. Страны, народы, расы, мелкие рассказы, не касающиеся основного повествования.
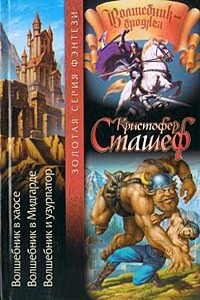
Сын легендарного «чародея поневоле» Магнус — это, что называется, оригинальное слово в искусстве Высокой магии!Есть, знаете, масса чародеев, бродящих из мира в мир во исполнение своей высокой миссии... а вот как насчет волшебника, что бродяжничает В ПОИСКАХ этой самой миссии — а найти ее ну никак не может?..Есть, знаете, просто куча магов, готовых сей секунд пустить свое искусство в ход во имя благого дела... а вот как насчет волшебника, что во имя благого дела чародействовать КАК РАЗ НЕ НАМЕРЕН?..Это — блистательный сериал Кристофера Сташефа.Самая забавная смесь фэнтези и фантастики, невероятных приключений и искрометного, озорного юмора, какую только можно вообразить.Вы смеялись над славными деяниями «чародея поневоле»? Тогда не пропустите сногсшибательную сагу о странствиях ВОЛШЕБНИКА-БРОДЯГИ!