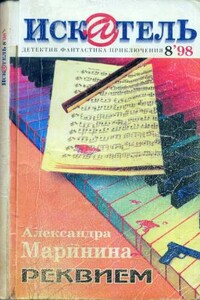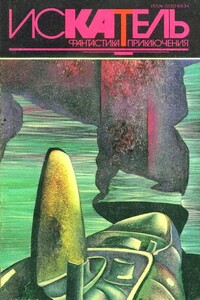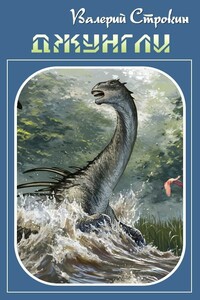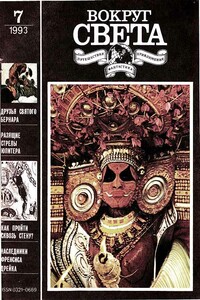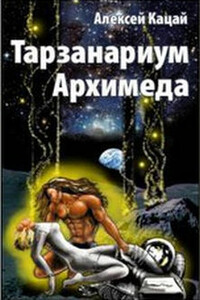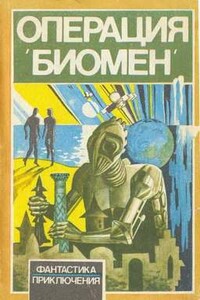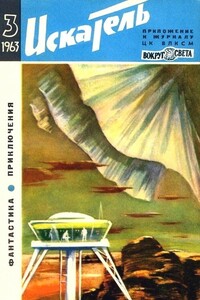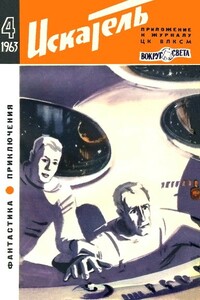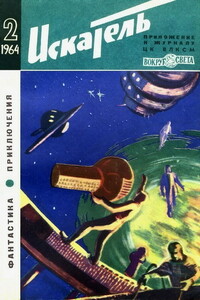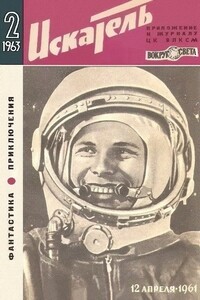— Что случилось, Виктор Сергеевич? — два или три раза спросила его медсестра.
— Да я почем знаю! — невольно огрызнулся он и все же, заметив свою грубость, кое-как взял себя в руки и улыбнулся сестре. — Забирают меня, Галочка.
— Как… куда?.. — обомлела она.
— Не знаю… Сейчас вместо меня военврача пришлют.
— Да что за день такой ужасный! — всплеснула руками медсестра и расплакалась..
Ремезова всего уже трясло… Вспомнив про седуксен, он выдавил из упаковки несколько таблеток, одну запил сразу, две или три бросил в карман, а последнюю протянул медсестре.
…Увидев тонущий внизу во мраке корпус больницы, доктор Ремезов стиснул зубы и вцепился в подлокотники: ему показалось, что смерч оторвал его от земли навсегда.
Командир аэродрома был знаком ему. Ремезов ездил лечить его внучку. То ли увидев на свету улыбающееся лицо, то ли поддавшись таблетке, Ремезов немного успокоился и пожаловался полковнику:
— Ваш десант мне всю больницу на ноги поднял…
— Ты не серчай, Виктор, — напряженно улыбаясь, отвечал полковник. — Видишь, сам из-за тебя на ногах. От командующего округом вдруг получаю депешу: «Содействовать срочной доставке в Ленинград врача Усть-…ской районной больницы Ремезова В. С.». И еще два звонка — из обкома и Минздрава.
«Ленинград, — подумал Ремезов. Мелькнула догадка, но сердце не забилось, только медленная упругая волна поднялась внутри и опустилась, еще усилив сонливость. — Это седуксен…»
…Они долго шли по пустынному летному полю, освещенному посадочными огнями, и эта фосфоресцирующая плоскость и безмолвие над ней казались Ремезову беспредельными. Наконец над ними из мрака выступил бок огромного резервуара.
— Это что… за мной?.. — проговорил Ремезов, и его спина покрылась мурашками.
— За тобой, Виктор, за тобой, — широко улыбаясь и похлопывая Ремезова по плечу, ответил полковник. — Конечно, кое-какой груз мы с оказией подкинем. Но главный груз — ты. Так что не волнуйся, повезут тебя аккуратно… Поплывешь, как у кита в брюхе.
Ремезов проснулся от легкого толчка и почувствовал, будто он в невесомости. Он открыл глаза и понял, что самолет стоит на твердой земле. В иллюминатор снаружи сквозил ранний свет.
Под брюхом самолета его ожидала черная «Волга» и сопровождающий, в звании капитана. По летному полю, по холодному течению воздуха тянулись клубы желтоватого тумана.
— Мы через город? — усевшись в машину, спросил Ремезов, с трепетом ожидая увидеть Ленинград после десятилетней разлуки.
— Нет, — не оборачиваясь, качнул фуражкой капитан. — В объезд. Прямо в Кущино.
Ремезов обиделся на капитана и сразу погрузился в дремоту. Ему привиделась высокая бетонная стена и бронзовые тяжелые буквы в ее правом верхнем углу. Когда он от торможения проснулся, то увидел сквозь лобовое стекло эту самую стену с бронзовыми буквами: ИКЛОН АН СССР. «Заспался… Седуксен на голодный желудок», — подумал Ремезов и заметил, что сбоку, к дверце, протянулась рука в синем пиджачном рукаве с блестящим браслетом часов. Ремезов уже знал, чья это рука, и ему показалось, что он видел ее только что во сне. Рука открыла дверцу, и Ремезов понял, что сейчас искренне обрадуется своему земляку, однокашнику, однофамильцу, а ныне — директору Института клонирования.
Он вышел из машины — и заранее заготовленная улыбка директора дрогнула, ожила, потеплела.
— Здравствуй, Витя.
— Здравствуй, Игорь.
— Ты не изменился.
— А ты заматерел. Годишься в профессора.
— Уже профессор, Витя… Черт с ним, со всем этим. Видишь, пропащий, понадобился ты Отечеству.
«Как будто я не нужен ему был на Алтае… Или твой институт — это уже и есть все Отечество? Ты не то что в профессора, ты в Людовики годишься, Игорек. „Государство — это я“». — Но все это Ремезов только подумал и не сказал, зная, что дала о себе знать обыкновенная зависть, тихо тлевшая десять лет, зависть, которой он почти не замечал, глядя на рассветы и закаты в тихих алтайских горах, и которая сразу разгорелась, едва он увидел институтские стены…
Они, оба Ремезова, были одного роста, и когда-то лет им давали поровну. Теперь доктор Виктор Ремезов, невольно сравнивая, понял, что однофамилец стал гораздо старше его и солидней.
И еще Виктор вспомнил, что когда они ходили студентами, а потом аспирантами, зависть его к однокашнику была другого сорта. Он казался себе неловким, неотесанным по столичному образцу, и чудилось ему, что наука смотрит на него с доброй улыбкой, как на способного провинциала, маленького такого, местного значения Ломоносова, «самому себе предка». Но, наверно, не так стыдился бы, не гнал бы он в себе провинциала, если бы не удивлялся своему однофамильцу, изумительно скоро в своих привычках, одежде, манере говорить с девушками принявшему отчетливый образ столичного жителя… Тот, которого он запросто обгонял на велосипеде, тот, о ком он говорил за-озерским пацанам «тронете Игореху — схлопочете от меня», вдруг подрос, стал крепко жать руку, делиться конспектами, которыми снабжали обожавшие его однокурсницы, а лабораторные работы лихо успевал делать за двоих… Однофамилец жил с легким каким-то талантом на память, на схватывание чужих навыков: ему довольно было присмотреться на минуту к более умелому, чтобы сразу повторить так же.