Иосиф Бродский после России - [7]
…как велел Макроус — с точки зрения Томаса Венцлова «В этой непереводимой шутке, обыгрывающей понятие «больших (мокрых?) усов» и звуки имени «Маркс», видимо, контаминированы усатый Маркс и усатый Сталин — два пророка максимы "цель оправдывает средства" (Венцлова Т. Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова // Венцлова Т. Статьи о Бродском. М.: Baltrus, 2005. С. 68).
…расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы / до лица, многооко смотрящего мимо, / как раскосый монгол за земной частокол, / чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы — /и, нащупав язык, на манер серафима/переправить глагол. — Здесь «корчма на литовской границе» из «Бориса Годунова» дополняется образом из «Пророка», как бы сводя автора «Литовского ноктюрна» и его адресата в едином поэтическом пространстве, символом и гарантией существования которого является Пушкин. При этом заданное автором прочтение всей строфы в «пушкинском ключе» может прояснять и ряд образов, казалось бы, прямо не связанных с общей темой. Так, в контексте сюжета «Пророка» строчка до лица, многооко смотрящего мимо, которую Венцлова справедливо трактует как «описание звездного неба» (Там же. С. 62), получает дополнительное расширение. Получение нового зрения от серафима как залог поэтической способности, сопоставленное с «многоочитостью», вызывает в памяти известный текст одного из философов, которого Бродский неизменно называл в числе наиболее на него повлиявших, — Льва Шестова. В своей работе «Преодоление самоочевидностей: (К столетию рождения Ф. М. Достоевского)», вошедшей впоследствии а книгу «На весах Иова», Шестов пишет: «Но я отвечу, что в той же книге рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь покрыт глазами. Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз, ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего? И вот, я думаю, что эти глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившийся за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но, прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек начинает внезапно видеть сверх того, что видят все, и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа «иных миров», так, что оно не «необходимо», а «свободно» есть, то есть одновременно есть и его тут же нет, что оно является, когда исчезает, и исчезает, когда является» (Шестов Л. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 27). Многое в творчестве Достоевского, как считает Шестов, связано с таким зрением.
мы — взаимный конвой, / проступающий в Касторе Поллукс — комментарий Т, Венцлова: «"близнечный миф", развиваемый в стихотворении, восходит к "Литовскому дивертисменту". Там уже шла речь о зодиакальном знаке Близнецов. На обсерватории Вильнюсского университета есть ряд старинных барельефов, изображающих знаки Зодиака; самый запоминающийся из них — именно Близнецы (Кастор и Поллукс).<…> Имя адресата "Томас", кстати, означает "близнец"» {Венцлова Т. «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» // Венцлова Т. Статьи о Бродском. М.: Baltrus, 2005. С. 59; 69).
Витовт, бросивший меч и похеривший щит — Витовт (13501430) — великий князь литовский. В ходе борьбы с двоюродным братом за власть Витовт был вынужден дважды бежать во владения Тевтонского ордена — так что скрываться ему не впервой. Меч и щит, с одной стороны, возможно приходят с литовского герба — Погони, или же, по мнению Т. Венцлова, «юмористический намек на щит и меч, эмблему КГБ» {Венцлова Т. «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» // Венцлова Т. Статьи о Бродском. М.: Baltrus, 2005. С. 70).
…над балтийской волной/я жужжу, точно тот моноплан — / точно Дариус и Гиренас, / но не так уязвим. — Имеются в виду Степонас Дариус (1897–1933) и Стасис Гиренас (1893–1933) — американские авиаторы литовского происхождения, которые в июле 1933 года пересекли Атлантику на маленьком и плохо оборудованном самолете, направляясь из Нью-Йорка в Каунас, но погибли на германской территории то ли из-за аварии, то ли будучи сбиты немецкими ПВО. В Литве они стали национальными героями, а останки их самолета хранятся в Каунасском музее.
Он суть наше "домой", /Восвояси вернувшийся слог — Б. А. Кац так комментирует эти строки «Поставив наивный вопрос — "а что же это за слог?", не побоимся столь же наивного ответа: это первый слог в слове "домой", а вернулся он восвояси, потому что после семи ступеней гаммы повторяется ее первая ступень, называемая слогом "до". И, думается, неслучайно, именно в начале "Литовского ноктюрна" единственный раз в стихах Бродского встречается полная восьмиступенная простая гамма, с "до" начавшаяся и на "до" закончившаяся, чтобы с этого же "до" продолжаться дальше, бесконечно поднимаясь в царство Урании» (Кац Б. А. "Простая гамма" в стихах Иосифа Бродского: (Несколько разрозненных наблюдений) // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 1999. С. 431).

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.
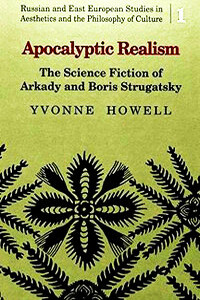
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».
